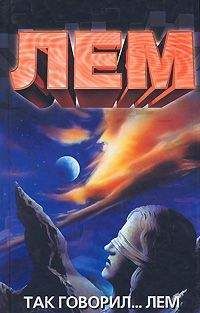Станислав Лем. Хорошо, попробуем, только должен признаться, что период, когда я писал «Высокий замок», наиболее подходил для этого, потому что сейчас многие подробности я уже не смогу воссоздать и извлечь из памяти. Однако прежде всего я должен заявить здесь, что это никакой не роман, как об этом не один раз твердила критика. Там нет ни одного вымышленного элемента, и если можно говорить о каком-то обмане, то разве лишь в том смысле, в каком искусство можно понимать как «прекрасный обман». Например, вся эта история с «государством удостоверений», которая казалась критикам вымыслом, истинна от начала до конца, с той единственной, может быть, оговоркой, что ее метафизические кулисы были достроены уже зрелым Лемом.
— Признаюсь, что, кроме эпизода с «удостоверениями», в значительной мере придуманным мне казался этот образ одинокого и сторонящегося мира ребенка.
— Вне всякого сомнения, я описал в той книжке все по возможности правдиво, тем более что тогда еще не осознавал сущности своего одиночества, наоборот, мне нравилось быть одному, я вовсе не нуждался в товарищах и предпочитал свои тогдашние странные размышления любому обществу. Видимо, я с самого начала был нелюдимой натурой. Поскольку ребенок не может провести такую самооценку, я лишь теперь вижу, что мое детство не было обычным.
— Отсутствие детской и юношеской дружбы обычно компенсируется сильной привязанностью к отцу или матери.
— Если речь идет о моих отношениях с отцом и матерью, я хотел бы ограничиться тем, что написал в «Высоком замке».
— Как хотите, хотя признаюсь, что меня интригует ваша мать. Роль отца в формировании вашей личности можно легко воссоздать из этой книги, а о матери мы не знаем почти ничего. Тут как бы кроется стереотип: отец — интеллектуальный элемент, а мать — моральный…
— Понимаю, но здесь вы не докопаетесь ни до каких архетипов. Мать была родом из очень бедной семьи из Пшемысля, поэтому брак моего отца его родственники оценивали как морганатический. Семья отца не раз давала моей матери понять, что в нем есть что-то неправильное.
Да, у матери не было никакой специальности, она была просто домохозяйкой. У нас были нормальные отношения, тем не менее я всегда больше льнул к отцу, именно поэтому, видимо, он оказал сильное влияние на мою личность, что видно хотя бы по моим интересам. Мать, конечно, всегда была дома, штопала мои носки, занималась мной, но никогда не была моим поверенным. Эту роль исполнял отец. И хотя он был очень занят, я высоко ценил те малые отрезки времени, которые он отрывал для меня от своей работы.
— В «Высоком замке» говорится еще о дяде. У вас с ним были довольно близкие отношения.
— Это был брат матери, который так же, как и мой отец, был врачом-ларингологом. Отец познакомился с ним, когда учился, и наши отношения были приятельскими. Сейчас часто случается, что дядю зовут по имени, но тогда обычаи были решительно другими. Обращение к дяде per Генек казалось чем-то необычным. Он любил широкие жесты, и в то время, когда моя мать считала, что пятьдесят грошей в неделю — это слишком большая сумма для гимназиста, он считал иначе и не раз выдавал мне пять злотых с Пилсудским, что я воспринимал как золотой дождь на голову.
— Который вы немедленно меняли на халву?
— Конечно, но еще покупал проволочки для экспериментов, какие-то моторы, машины Уимсхерста, электростатические устройства, индукторы, вакуумные трубки и т. п. Все это в «Высоком замке» не преувеличено ни на йоту. Когда у нас с женой появился ребенок, я пробовал спустя некоторое время — неосознанно, впрочем — копировать самого себя, покупая своему сыночку многочисленные металлические и электротехнические диковинки, и не мог понять, почему он интересуется этим значительно меньше, чем я в свое время. Что ж, это известное явление: когда хочешь угостить кого-то особенно дорогого, покупаешь ему прежде всего то, что любишь сам.
— Итак, отец, дядя, электрические машинки и удостоверения — это все товарищи вашего детства?
— Конечно, это факт — который теперь я констатирую с сожалением, — что я был одинокой натурой и у меня не было ни очень близких, ни просто близких друзей. Я пытался их завести, но даже в юношеские годы, когда это делается легко, никакой дружбы у меня не было. А перед войной — об этом я, кажется, не вспоминал в «Высоком замке», — когда мне было лет семнадцать, я начал писать стихи. Они были очень плохие, но мне очень нравились, и когда во время оккупации я оставил их в «спаленной» квартире, был глубоко уверен, что национальная культура понесла великую утрату. Если бы гестаповцы знали польский язык и прочитали эти черновики с патриотическими опусами, они были бы поражены! Общий вывод из всего этого таков, что я созревал очень медленно и поумнел довольно поздно.
— Гимназические годы в «Высоком замке» описаны довольно подробно, но на 1939 году рассказ обрывается, так как началась война, во Львов вошли русские. Конечно, вы не могли это описывать во времена ПНР.
— Так случилось, что экзамены я сдал в начале лета, а в конце его началась война, и очень скоро Польша пала. Для меня это был страшный момент, я постоянно в мыслях к нему возвращаюсь. Сверху, по Сикстуской улице из Цитадели, двигалась польская легкая конная артиллерия, а из боковых улиц вдруг на лошадях выехали советские (не знаю почему, но все с монгольскими лицами). У каждого из них в одной руке был наган, а в другой — граната. Они приказали нашим солдатам снять портупеи, все оружие бросить на землю, орудия с лошадьми оставить и уходить. Мы стояли пораженные и плакали. Мы видели, как пала Польша! Дворник, который был свидетелем Иеговы, покрывал покинутых лошадей попонами. Что было потом, я уже не помню.
— Каково было соотношение сил?
— Это был целый польский полк, развернутый в Цитадели.
— Но из ваших слов следует, что советских было всего несколько человек.
— Потому что я видел столько. Но во всем городе их было очень много, так что весь Львов был ими занят.
В этой сцене действительно было что-то необычное, но я не могу понять, что именно? То, что все произошло без единого выстрела, в молчании, как бы во сне?..
Да, именно так и было. Может, эти монгольские морды что-нибудь кричали (наверняка так), но я не помню. Особое впечатление на меня произвело то, что советские даже не взяли наших солдат в плен, ничего им не сделали, только приказали уходить («paszol won»[5]). Так кончилась для меня Польша. Эта картина, которую я наблюдал из ворот дома, осталась у меня в памяти на всю жизнь.
— Русские убивали людей в городе? Грабили, насиловали?
— Тогда еще нет, они только что вошли в город.
— На грабеж и насилие хватит нескольких минут.
— (Категорически) Нет, нет, поначалу они вели себя пристойно, так же, как и немцы позднее. Пока входила регулярная армия, все происходило в цивилизованных рамках. Только когда пришло НКВД, начали происходить страшные вещи: вывоз, селекция и т. д. Так же было потом и с немцами. Только те, кто приходил за первыми отрядами, брали, как говорится, людей за жопу. Конечно, случались исключения, как коммандосы, которые убили польских профессоров Львовского университета вместе с Боем. Интересно об этом написал профессор Стейнгауз. У него получилась замечательная книга, потому что он хладнокровен в своих наблюдениях и одинаково беспощаден и к советским, и к немцам.
— Вы верите в теорию Суворова, который утверждает, что поражение Советов в 1941 году было таким тотальным, потому что они были заняты приготовлениями к наступательной войне, и поэтому техника и армия были стянуты к границе?
— Нет, по моему мнению, они вообще не были готовы ни к какой войне, ни к наступательной, ни к оборонительной. Только собирались к такой войне готовиться. Концепция Сталина была такова: западные страны, то есть Франция, Германия и Англия, ослабнут, воюя друг с другом, а потом Красная Армия войдет в них, как нож в масло, но не раньше, чем в 1942 или 1943 году. Но одновременно он сам рубил сук, на котором сидел, потому что уничтожил свой генеральный штаб: Тухачевского расстрелял, а Рокоссовского потом пришлось вытаскивать из лагеря. Он вообще явно ненавидел все политические службы типа НКВД.
— Я читал биографию Тухачевского. Он вообще не был гениальным полководцем, как это утверждает легенда, а совсем наоборот — был политическим карьеристом. Сталин не ошибся, избавившись от него, потому что такой командующий армией не годился для войны с Западом.
— Видимо, только царские полководцы, которые перешли на сторону красных, имели хоть какой-то опыт. Впрочем, это материя, которую я не знаю.