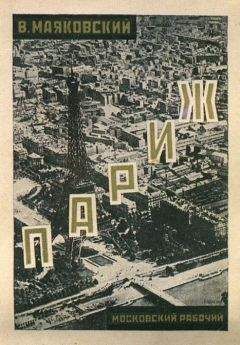Что бы вы ни делали нового, резолюция одна: в Париже это давно и лучше.
Вячеслав Иванов так и писал:
Новаторы до Вержболова!
Что ново здесь, то там не ново.
Доходили до смешного:
В Москве до войны была выставка французов и русских. Критик Койранский назвал русских жалкими подражателями и выхвалял какой-то натюрморт Пикассо. На другой день выяснилось, что служитель перепутал номера, и выхваляемая картина оказалась кисти В. Савинкова, ученика жалких "подражателей", а сам Пикассо попал в "жалкие".
Было до того конфузно, что газеты даже писать 0б этом отказывались. Тем конфузнее, что на натюрморте были сельди и настоящая великорусская краюха черного хлеба, совершенно немыслимая у Пикассо.
Даже сейчас достаточно выступить в Париже, и вам обеспечены и приглашение в Америку и успех в ней. Так, например, даже провалившийся в Париже Балиев выгребает ведрами доллары из янки.
Восемь лет Париж работал без нас. Мы работали без Парижа.
Я въезжал с трепетом, смотрел с самолюбивой внимательностью.
А что, если опять мы окажемся только Чухломою?
Внешность (то, что вульгарные критики называют формой) всегда преобладала во французском искусстве. В жизни это дало "парижский шик", в искусстве это дало перевес живописи над другими искусствами.
Живопись – самое распространенное, самое влиятельное искусство Франции. Не говорю даже о квартирах. Кафе и рестораны сплошь увешаны картинами. На каждом шагу магазин-выставка. Огромные домища – соты-ателье. Франция дала тысячу известнейших имей. А на каждого с именем приходится еще тысяча пишущих, у которых не только нет имени, но и фамилия их никому не известна, кроме консьержки.
Перекидываюсь от картины к картине. Выискиваю какое-нибудь открытие. Жду постановки новой живописной задачи. Добиваюсь в картине раскрытия лица сегодняшнего Парижа.
Заглядываю в уголки картин – ищу хоть новое имя.
Напрасно.
Попрежнему центр – кубизм. Попрежнему Пикассо – главнокомандующий кубистической армией.
Попрежнему грубость испанца Пикассо "облагораживает" наиприятнейший зеленоватый Брак.
Попрежнему теоретизируют Меценже и Глез.
Попрежнему старается Леже вернуть кубизм к его главной задаче – объему.
Попрежнему непримиримо воюет с кубистами Делонэ.
Попрежнему "дикие" – Дерен, Матис – делают кар. тину за картиной.
Попрежнему при всем при этом имеется последний крик. Сейчас эти обязанности несет всеотрицающее и всеутверждающее "да-да".
И попрежнему… все заказы буржуа выполняются бесчисленными Бланшами. Восемь лет какой-то деятельнейшей летаргии.
Это видно ясно каждому свежеприехавшему.
Это чувствуется и сидящими в живописи.
С какой ревностью, с какими интересами, с какой жадностью расспрашивают о стремлениях, о возможностях России.
Разумеется, не о дохлой России Сомовых, не об окончательно скомпрометировавшей себя культуре моментально за границей переходящих к Гиппиусам Малявиных, а об октябрьской, об РСФСР.
Впервые не из Франции, а из России прилетело новое слово искусства – конструктивизм. Даже удивляешься, что это слово есть во французском лексиконе.
Не конструктивизм художников, которые из хороших и нужных проволок и жести делают ненужные сооруженьица. Конструктивизм, понимающий формальную работу художника только как инженерию, нужную для оформления всей нашей практической жизни.
Здесь художникам-французам приходится учиться у нас- Здесь не возьмешь головной выдумкой. Для стройки новой культуры необходимо чистое место… Нужна октябрьская метла.
А какая почва для французского искусства? – Паркет парижских салонов!
[1922]
Париж гордится своей Комедией, театром Сары Бернар, Оперой… Но парижане ходят в Альгамбру, к Майолю и в прочие веселые места. Туда и я.
Тем более, что драма и, конечно, опера и балет России несравненно и сейчас выше Парижа. Но меня даже не интересовало сравнивать наши руины с чужими и гордиться величием собственных. В Альгамбре и Фоли-Бержер, кроме искусства, которым живет сейчас масса Парижа, выступают быт, темперамент, одобрение и негодование пылких французов.
Популярность этих ревю-обозрений потрясающа.
У нас сейчас корпят над десятком постановок в сезон и всежечерез неделю с ужасом окидывают партерныеплеши.
В Париже ревю идет год, в огромном театре перекидывает четырехсотые спектакли на следующий год, и все время сидят, стоят и висят захлебывающиеся восторгом люди.
Актриса может сколько угодно под бешеный джаз-банд выламывать руки и ноги, но никто из публики не должен даже слегка поломать голову.
Каков вкус?
Это Майоль. Крохотный зал. Со сцены в публику мостки.
Войдя, оглядев балкон, я сначала удивился, чего это публика голые колени на барьер положила. Ошибся. Наклонились почтенные лысины. Сверху, должно быть выглядит фантастическим биллиардом в триста лоснящихся шаров.
В обозрении три действия. Сюжет простой. В трех действиях бегают, декламируют и поют любовные вещи, постепенно сводя на нет количество одежи. Кончается все это грандиозным гопаком в русских костюмах. Очевидно, наша эмиграция приучила уважать "национальное достоинство России".
Три актрисы выходят с огромными вазами конфет (эти же вазы – почти единственная одежда) и начинают храбро бомбардировать этими конфетами раскрасневшиеся и влажные от удовольствия лысины…
С полчаса в зале стоит "здоровый, бодрящий" смех.
Это культурное развлечение кончается для официальности легким демократическим выступлением.
Шансонетка поет под оркестр с проскальзывающими нотами марсельезы – о презрении к законам, о вражде к государству и о свободе… есть, пить и любить на Монмартре.
"Я свободной Монмартрской республики дочь".
Это Альгамбра. Многоярусный театр. Вкусы пестрые – от благородного партера до блузной галерки.
Программа тоже пестрая – от балерин-наездниц до драмы Мистингет.
Здесь уже видишь эпизодики отражений внутрипарижской борьбы.
Первый номер – дрессированные попугаи.
Дама расставила антантовские флажки: французский, английский, бельгийский, итальянский, американский, японский.
Попугай за ниточку будет подымать любой, по желанию публики.
Дама предлагает публике выбирать.
В ответ с одной стороны галерки крик басом:
– Русский!
С другой – тенором:
– Большевике
Дама смущена, извиняется:
– Таких нет!
Партер и половина ярусов свистит и цыкает на галерку.
Когда, наконец, согласились на американском, перепуганный попугай, которому пришлось принять участие в "классовой борьбе" в незавидной роли соглашателя, уже ничего не мог поднять, кроме писка.
Страсти рассеяли музыкой два англичанина, игравшие на скрипках, бегая, танцуя и перекидываясь смычками.
Окончательно страсти улеглись на "драме" Мистингет.
Драма несложная.. Верзила заставляет любовницу принять участие в крушении и ограблении поезда. Кладут на рельсы камень. Мистингет в отчаянии. Ей грозят. Все же она старается предупредить машиниста. Не может. Каким-то чудом ей удается под носом паровоза свернуть камень на головы бандитов. Поезд прошел. Бандиты убиты.
Порок покаран. Добродетель восторжествовала.
Эта мораль (разыгранная, правда, Мистингет поразительным языком с поразительным искусством) примиряет всех разнопартийных, но одинаково сантиментальных парижан.
На следующем номере страсть разгорается.
Трансформатор.
Изображает всех – от Жореса до Николая Второго.
Безразлично проходят Вильсон, Римский папа и др.
Но вот – Пуанкаре! – и сразу свист всей галерки и аплодисменты партера.
Скорей разгримировывается.
– Жорес!- Свист партера и аплодисменты галерки.
– Русский несчастный царь.- Красный мундир и рыжая бородка Николая.
Оркестр играет: "Ах, зачем эта ночь так была хороша".
Бешеный свист галерки и аплодисменты партера. Скорей обрывает усы, ленту и бородку. Для общего успокоения:
– Наполеон!
Сразу рукоплескания всего зала. В Германии в точно таких случаях показывают под занавес Бисмарка.
Здесь веселее.
Если эта, все же рафинированная аудитория так страстна в театре, то как "весело" будет Пуанкаре, когда ареной настоящей борьбы станут улицы Парижа!
Ревю Фоли-Бержер. Театр мещан. Театр обывателя. Огромный, переплетенный железом.
Напоминает питерский Народный дом.
Здесь и вкус Майоля – только чтобы не чересчур голый.
И вкус Альгамбры – только чтобы мораль семейная.
Но зато, если здесь и полуголые, то в общепарижском масштабе. Сотни отмахивающих ногами англичанок. Максимум смеха и радости, когда вся эта армия, легши на пол, стала вздымать под занавес то двести правых, то двести левых ног.