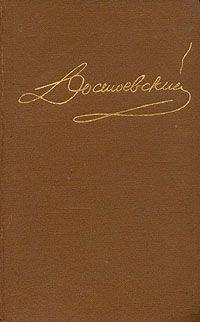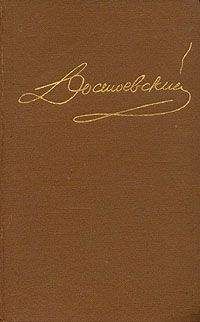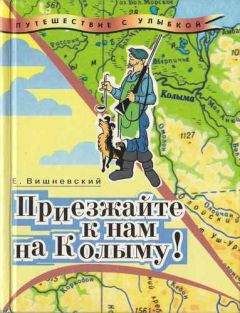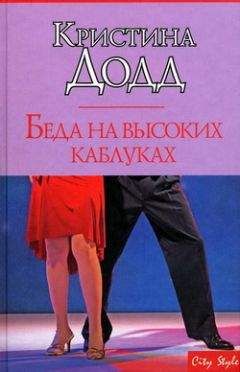54. M. M. ДОСТОЕВСКОМУ
Начало сентября 1845. Петербург
Драгоценнейший друг мой!
Пишу к тебе тотчас же по приезде моем, по условию. Сказать тебе, возлюбленный друг мой, сколько неприятностей, скуки, грусти, гадости, пошлости было вытерпено мною во время дороги и в первый день в Петербурге свыше пера моего. Во-первых, простившись с тобою и с милой Эмилией Федоровной, я взошел на пароход в самом несносном расположении духа. Толкотня была страшная, а моя тоска была невыносимая. Отправились мы в двенадцать часов с минутами первого. Пароход полз, а не шел. Ветер был противный, волны хлестали через всю палубу; я продрог, прозяб невыносимо и провел ночь неописанную, сидя и почти лишась чувств и способности мыслить. Помню только, что меня раза три вырвало. На другой день ровно в четыре часа пополудни пришли мы в Кронштадт, (1) то есть в 28 часов. Прождав часа три, мы отправились уже в сумерках на гадчайшем, мизернейшем пароходе "Ольга", который плыл часа три с половиною в ночи и в тумане. Как грустно было мне въезжать в Петербург. Я смутно перечувствовал всю мою будущность в эти смертельные три часа нашего въезда. Особенно привыкнув с вами и сжившись так, как будто бы я целый век уже вековал в Ревеле, (2) мне Петербург и будущая жизнь петербургская показались такими страшными, безлюдными, безотрадными, а необходимость такою суровою, что если б моя жизнь прекратилась в эту минуту, то я, кажется, (3) с радостию бы умер. Я, право, не преувеличиваю. Весь этот спектакль решительно не стоит свечей. Ты, брат, желаешь побыть в Петербурге. Но если приедешь, то приезжай сухим путем, потому что нет ничего грустнее и безотраднее въезда в него с Невы и особенно ночью. По крайней мере, мне так показалось. Ты, верно, замечаешь, что мои мысли и теперь отличаются пароходной качкою.
Когда я приехал на квартиру, ночью в 12-м часу, то человека моего дома не оказалось; он служил на время в другом месте, и дворник, неизвестно чему обрадовавшийся, вручил мне осиротелый ключ моей шестисот рублей (4) квартиры (в долгах). Я даже не мог чаю напиться и так и лег в решительном апатическом состоянии. Сегодня, проснувшись в восемь часов, я увидел перед собой моего человека. Порасспросил его. Всё как было; по-старому. Квартира моя слегка подновлена. Григоровича и Некрасова нет еще в Петербурге, а известно лишь по слухам, что они явятся разве-разве к 15-му сентяб<ря>, да и то сомнительно. Дав самую коротенькую, но весьма решительную аудиенцию кой-каким кредиторам, я отправился по делам и ровно ничего не сделал. Познакомился с журналами, поел кое-что, купил бумаги и перьев - да и кончено. К Белинскому не ходил. Намереваюсь завтра отправиться, а сегодня я страшно не в духе. Вечером присел за письмо, которое уже почти кончается, а письмо вялое, тоскливое, вполне отзывающееся тяжким моим теперешним положением - "Скучно на белом свете, господа!"
Это письмо пишу к тебе, во-первых, вследствие обещания написать поскорее, а во-вторых, оттого, что тоска, и письмо просилось написаться. Ах, брат, какое грустное дело одиночество, и я начинаю тебе теперь завидовать. Ты, брат, счастлив, право, счастлив, сам не зная того. С следующею почтою напишу тебе еще. Занимает меня немного то, что я почти совсем (до 15-го) без ресурсов, но только немного, потому что я в настоящее время и думать ни об чем не могу. Впрочем, всё это вздор! Я ослаб страшно и хочу теперь лечь спать, потому что уже ночь на дворе. Что-то скажет будущность. Как жаль, что нужно работать, чтобы жить. Моя (5) работа не терпит принуждения.
Ах, брат, ты не поверишь, как бы я желал теперь хоть два часочка еще пожить вместе с вами. Что-то будет, что-то будет впереди? Я теперь настоящий Голядкин, которым я, между прочим, займусь завтра же. Покамест прощай! До следующей почты. Прощай, возлюбленный друг мой; кланяйся и поцелуй за меня Эмилию Федоровну. Детям тоже кланяюсь. Помнит ли еще меня Федя или оказывает равнодушие? Ну, прощай, дражайший мой. Прощай.
Твой Достоевский.
Голядкин выиграл от моего сплина. Родились две мысли и одно новое положение. Ну, прощай, мой голубчик. Послушай, что-то с нами будет лет через двадцать? Не знаю, что со мной будет; знаю только, что я теперь мучительно чувствую.
М. И<ванов>не и А<лександ>ру Ада<мови>чу Бергманам мое нижайшее почтение. Петербург еще пуст. Всё порядочно вяло.
(1) далее было начато: то есть сутки с
(2) было: с вами
(3) было: мне кажется
(4) так в подлиннике
(5) было: Эта
55. M. M. ДОСТОЕВСКОМУ
8 октября 1845. Петербург
8 октября.
Любезнейший брат.
До сих пор не было у меня ни времени, ни расположения духа уведомить тебя о чем-нибудь до меня касающемся. Так всё было скверно и гадко, что самому тошно было глядеть на свет божий. Во-первых, дражайший, единственный друг мой, всё это время я был без копейки и жил на кредит, что весьма скверно. Во-вторых, было вообще как-то грустно, так что поневоле опадаешь духом, не заботишься о себе и становишься не безмозгло равнодушным, но, что хуже этого, переходишь за предел и бесишься и злишься до крайности. В начале этого месяца явился Некрасов, отдал мне часть долга, а другую получаю на днях. Нужно тебе знать, что Белинский недели две тому назад прочел мне полное наставление, каким образом можно ужиться в нашем литературном мире, и в заключение объявил мне, что я непременно должен, ради спасения души своей, требовать за мой печатный лист не менее 200 р. асс<игнациями>. Таким образом мой Голядкин пойдет по крайней мере в 1500 рублях ассиг<нациями>. Терзаемый угрызениями совести, Некрасов забежал вперед зайцем и к 15 генварю обещал мне 100 руб. серебром за купленный им у меня роман "Бедные люди". Ибо сам чистосердечно сознался, что 150 р. сереб<ром> плата не христианская. И посему 100 р. сереб<ром> набавляет мне сверх из раскаяния. Всё это покамест хорошо. Но вот что скверно. Что еще ровнешенько ничего не слыхать из цензуры насчет "Бедных людей". Такой невинный роман таскают, таскают, и я не знаю, чем они кончат. Ну как запретят? Исчеркают сверху донизу? Беда, да и только, просто беда, а Некрасов поговаривает, что не успеет издать альманаха, а уж истратил на него 4000 руб. ассиг<нациями>.
Яков Петрович Голядкин выдерживает свой характер вполне. Подлец страшный, приступу нет к нему; никак не хочет вперед идти, претендуя, что еще ведь он не готов, а что он теперь покамест сам по себе, что он ничего, ни в одном глазу, а что, пожалуй, если уж на то пошло, то и он тоже может, почему же и нет, отчего же и нет? Он ведь такой, как и все, он только так себе, а то такой, как и все. Что ему! Подлец, страшный подлец! Раньше половины ноября никак не соглашается окончить карьеру. Он уж теперь объяснился с е<го> превосходительством и, пожалуй, (отчего же нет) готов подать в отставку. А меня, своего сочинителя, ставит в крайне негодное положение.
Я бываю весьма часто у Белинского. Он ко мне донельзя расположен и серьезно видит во мне доказательство перед публикою и оправдание мнений своих. Познакомился я на днях с Кронебергом, переводчиком Шекспира (сыном стар<ого> Кронеберга, харьк<овского> проф<ессора>). Вообще говоря, будущность (и весьма недалекая) может быть хороша и может быть и страх как дурна. Белинский понукает меня дописывать Голядкина. Уж он разгласил о нем во всем литературн<ом> мире и чуть не запродал Краевскому, а о "Бедных людях" говорит уже пол-Петербурга. Один Григорович чего стоит! Он сам мне говорит: "Je suis votre claqueur-chauffeur".
Некрасов аферист от природы, иначе он не мог бы и существовать, он так с тем и родился - и посему в день же приезда своего, у меня вечером, подал проект летучему маленькому альманаху, который будет созидаться посильно всем литературным народом, но главными его редакторами будем я, Григоров<ич> и Некрасов. Последний берет издержки (1) на свой счет. Альманах будет в 2 печат<ных> листа и выходить будет один раз в две недели, 7-го и 21-го каждого месяца. Название его "Зубоскал"; дело в том, чтобы острить а смеяться над всем, не щадить никого, цепляться за театр, за журналы, за общество, за литературу, за происшествия на улицах, за выставку, за газетные известия, за иностранные известия, словом, за всё, всё это в одном духе и в одном направлении. Начнется он с 7-го ноября. Составился он у нас великолепно. Во-первых, он будет с иллюстрациями. Эпиграфом берутся знаменитые слова Булгарина из фельетона "Северной пчелы", что "мы готовы умереть за правду, не можем без правды" и т. д., и подпишет Фаддей Булгарин. То же будет написано в объявлении, которое пойдет 1-го числа ноября. Статьи для 1-го нумера будут Некрасова, о некоторых (разумеется, на днях случившихся) Петербург<ских> подлостях. 2) Будущий роман Евг. Сю "Семь смертных грехов" (на 3-х страничках весь роман). Обозрение всех журналов. Лекция Шевырева о том, как гармоничен стих Пушкина, до того, что когда он был в колизее и прочел двум дамам, с ним бывшим, несколько стансов из Пушкина, то все лягушки и ящерицы, бывшие в колизее, сползлись его слушать. (Шевырев читал это в Москов<ском> университете). Потом последнее заседание славянофилов, где торжественно докажется, что Адам был славянин и жил в России, (2) и по сему случаю покажется вся необыкновенная важность и польза разрешения такого великого социального вопроса для благоденствия и пользы всей русской нации. Потом в отделе искусств и художеств "Зубоскал" отдает полную справедливость "Иллюстрации" Кукольника, причем даже сошлется на следующий пункт "Иллюстрации", где она говорит: что: ъiсктгзел-дтоом-дудурн и т. д. несколько строк таким образом. (Известно, что "Иллюстрация" весьма неисправна в корректуре; переставление слов, слова оборотом для нее вовсе ничего не значат.) Григоров<ич> напишет "Историю недели" и поместит несколько своих наблюдений. Я буду писать "Записки лакея о своем барине" и т. д. Видишь, что журнал будет весьма веселый вроде "Guкpes" Kappa. Дело это доброе; ибо самый малый доход может дать на одну мою часть 100-150 руб. в месяц. Книжка пойдет. Некрасов будет помещать и стихи.