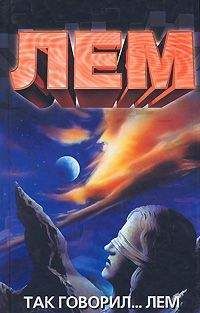Вот обоснованно можно сказать, что для моих «Диалогов» характерен излишек надежды и веры в кибернетику. Если же говорить о социологических моделях, то кое-кто мне говорил, что это добросовестный и дельный, с использованием в меру точных понятий, анализ укладов различного типа.
Книга складывается из трех частей. Первая говорит о парадоксе воскрешения. Эту часть даже в литературном отношении не в чем упрекнуть. Я считаю, что она очень неплохо написана.
Во второй части мы находим универсальное лекарство ко всем болезням философии, прописанное доктором Филонусом в виде кибернетики. Конечно, она там подана упрощенно, но надо помнить, что я писал это в начале пятидесятых годов, и мои взгляды отражают тогдашний уровень кибернетического сознания.
Третья часть — это мое частное дополнение, которое использует понятийный аппарат для расправы с различными видами системного зла. Вот все, что можно сказать об этой книге. Если бы она была совсем неактуальной, наверняка мои издатели не стали бы ее переиздавать спустя двадцать пять лет. На немецком она вышла дважды за три года.
— Очень интересным в жанровом отношении было «Расследование», использующее генологические рамки криминального романа и ломающее их в финале. То, что через много лет вы вернулись к этой проблеме в «Насморке», означает, что первое решение вы признали неудачным, но идея была столь интересной, что ее стоило литературно проиграть еще раз.
— Первая версия меня не удовлетворяет, хотя она вполне пристойно написана и держит читателя в напряжении. Окончание же — это просто нарушение жанрового образца и попытка взобраться на высокого коня, так как там вставлена релятивистская философийка, показывающая, что могло быть так, а могло быть совсем иначе. «Насморк» лучше, потому что достовернее. Я сам готов ему поверить. Даже в категориях натурализма и наивной достоверности это сделано лучше. А моя привязанность к этой идее просто вытекает из того, что у меня всегда было маниакальное отношение к тому, что может сделать случай, совпадение событий, слепой рок или судьба.
— Очень интересной мне всегда представлялась «Рукопись, найденная в ванне». Как вы сегодня относитесь к этой книге?
— Я хорошего мнения об этой книге, хотя давно в нее не заглядывал. Так получилось, что она довольно быстро была переведена на другие языки, и после первых авторизаций у меня не было случая к ней вернуться, так как когда появляются переводы греческие, еврейские или японские, мне с ними работать не приходится.
В этой книге содержится концепция, которая выходит за пределы всей безотлагательности политической сатиры. Мы встречаемся в ней с тотализацией понятия намеренности. Это сделано очень выразительно, может быть, даже с кошмарной настойчивостью, дающей поразительный эффект. Мне кажется, что это оригинально и правдиво. Ведь человек в самом деле способен трактовать все, что находится в поле его восприятия, как сообщение. Сотворить из этого principium композиции романа было очень неглупой идеей, даже в философском плане. Весь тотемизм и анимизм, и различные другие явления этой сферы в первобытных культурах основаны на убеждении, что все может пониматься как сообщение, адресованное жителям. Факт, что это может быть использовано создателями некоторой общественной системы, а затем выйти за границы намерений политических диктаторов, довольно симптоматичен. С этого момента уже все начинает быть известием. Наступает абсолютизация конспирологического видения истории, даже дождь становится симптомом, позволяющим плохо или хорошо предвещать то, что может произойти в политической сфере. Это происходит непроизвольно для тех несчастных существ, которые вынуждены жить в замкнутой структуре. Именно это представляется мне существенным в книге, и ее безумие — так как это параноидальное видение — выстроено с достаточной интенсивностью и настойчивостью. Именно это в книге ценно и непреходяще. Ведь это касается — что и является предметом моей гордости — не какой-то мимолетной и преходящей конфигурации событий социополитического характера, которая развеивается и исчезает. Это можно переносить с места на место, из времени во время, и попадать, как по универсальной формуле, во множество различных явлений в самых различных общественных формациях. Этой книгой управляет счастливое сочетание понурого кошмара с юмором. Сегодня эта понурая юмористичность для меня genius temporis и signum temporis.[36] До сих пор! И ничто не указывает на то, что это устареет.
— Если придерживаться хронологии, то теперь в поле зрения должен появиться «Солярис».
— Мне трудно давать какой-либо комментарий к этой книге. Я думаю, что мне удалось сказать в ней то, что намеревался. Эта книга представляется мне вполне приличной. Могу только добавить, что именно она дала обильную пищу для критиков. Я читал столь мудреные ее разборы, что сам мало что в них понимал. Начиная, конечно, от чисто фрейдистского толкования, причем тот американский критик, специалист по английской филологии, довольно паскудно провалился, так как вылавливал психоаналитические диагнозы из английского текста, не ведая о том, что в польском языке совершенно иная идиоматика, которая вовсе не дает оснований для такой диагностики.
Из рецензий на «Солярис» можно составить толстый том, весьма забавный, поскольку рецензенты тянули message этой книги в разные стороны. Один весьма антикоммунистически настроенный англичанин выявил, что океан — это СССР, а люди на станции — это окрестные маленькие государства. Явление проекции, вбрасывания в текст того, что играет в душе критика, демаскирует значительную произвольность литературной критики. Именно это наблюдение было одной из причин, по которой я потом написал мою теорию литературного произведения — «Философию случая». Возможно, если бы я цитировал в ней разлетающееся во все философии собрание разборов «Соляриса», это было бы хорошим подтверждением главного тезиса о случайности истории книг. Но я решил, что в таком теоретическом томе не следует заниматься собственным творчеством. Впрочем, я знаю только о тех рецензиях, которые написаны на доступных мне языках. Понятия не имею о том, что писали обо мне, например, японцы или шведы. Вообще говоря, чем более оригинально произведение, то есть отступило от жанрового образца, тем больше толкований оно допускает, как тест Роршаха. Но, конечно, я не могу сесть за машинку и решить написать «очень оригинальный и потому многомерный текст». Когда пару лет назад здесь сидел мой американский переводчик Майкл Кандель и сказал, что я закрученный, многозначный и коварный, то я сделал большие глаза: это я-то закрученный и коварный? Все это потому, что я вовсе не задумывал всего этого, а писал, как мог. Это как если бы кто-нибудь сказал: «Как долго соловей должен был ходить в музыкальную школу, изучать контрапункты; может быть, сам Пендерецкий его учил?» Откуда? Щебечет так, потому что по-другому не умеет.
— Если сейчас вы еще скажете, что наилучшим доказательством этой простодушности являются «Сказки роботов» и «Кибериада», то я многозначительно прищурюсь.
— Но в некоторой степени именно так и есть. Ведь «Сказки роботов» последовательно выдержаны в сказочной тональности.
— В таком случае скажите, кто, по-вашему, является виртуальным читателем этой книги?
— С сожалением заявляю, что о виртуальных читателях я ничего не знаю. На эти проблемы у меня никогда не хватало времени, потому что слишком много усилий всегда уходило на то, чтобы внятно проговорить то, что я хотел сказать. Могу только сказать, что «Сказки роботов» были лишь детским садом перед «Кибериадой». Это четко выявляется при хронологическом анализе: сначала я использовал традиционную схему сказки, а потом начал вытворять с нею все более акробатические трюки. Кто-нибудь мог бы сказать, что сначала я хотел этого традиционного читателя подготовить, не захватывать его врасплох, чтобы потом еще больше его втянуть. Но на самом деле это не было моим намерением.
— Ну признайтесь, что вы не думали о настоящем детском читателе, когда писали «Сказки»?
— Признаюсь.
— А я провел эксперимент: три сказки из этого цикла прочитал семилетнему мальчику. Он выслушал их со вниманием, и у меня создалось впечатление, что он даже заинтересовался.
— Это любопытно. Когда моему сыну было восемь лет, я написал для него сказку, но, к сожалению, по прочтении он ее полностью дискредитировал. Она ему попросту не понравилась. В то же время сказки, которые не были намеренно предназначены для детей, он читал с большим удовольствием. Видимо, я не принадлежу к писателям, которые могут «прицелиться» в читателя, а потом «нажать на спусковой крючок», я должен писать лишь то, что в данный период написать могу. Сам-то я, без сомнения, настроен очень по-детски, всегда любил игрушки… Кроме того, обычные генологические критерии меня, как читателя, никогда не волновали. Меня интересовало лишь, увлекательное для меня это чтение или нет? Например, я не знаю, должны ли дети читать Киплинга? Я не знаю, интересно это им или скучно. Но мальчиком я читал его с огромным удовольствием. Авторская точка зрения, направленная в сторону читателя, никогда не казалась мне единственно правильной.