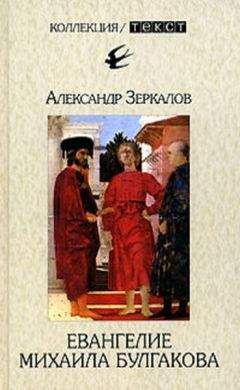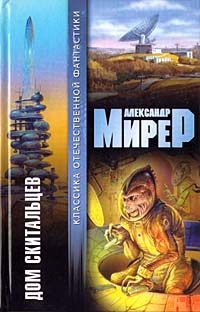Иными словами, вся биография Иешуа до начала Пилатова суда скомпилирована из талмудической информации — в решительном идеологическом противоречии с Евангелием. Булгаков вроде бы реабилитирует евреев, когда указывает, что в деле Иешуа-Иисуса они руководствовались законом (хотя бы и безнравственным, на наш взгляд), а не поступали беззаконно, как утверждают евангелисты.
Но реабилитация — кажущаяся. Затем Мастер поворачивает в обратном направлении и удостоверяет Евангелие.
Разберемся. Прошу читателя вернуться к главе 19 «Ловушка». Там я указал на логический разрыв, замечаемый в булгаковском рассказе.
Откуда, в самом деле, взялся второй пергамент? Разве Синедрион вынес два приговора? Что-то здесь не объяснено; в действии, очевидно, есть лакуна, которую надо заполнить.
Страницей позже мы находим другую странность. Когда Иешуа рассказывает игемону о квартире-ловушке, тот безошибочно угадывает деталь ее обстановки: «Светильники зажег… — сквозь зубы в тон арестанту проговорил Пилат, и глаза его при этом мерцали» (с. 446) [35]. Безошибочно — Иешуа удивляется осведомленности прокуратора.
Светильники… А что в них, на самом деле, особенного? Для парада, для дорогого гостя — деньги-то за него заплатят немалые — почему бы не истратить толику масла?
Но почему игемон — очень умный, как сказано, человек — за этот пустяк зацепился и скверно, саркастически о нем упомянул? Повода вроде нет для насмешки, да и какое веселье прокуратору — только что обретенный любимый человек обрекает себя на мучительную гибель?..
Эта неожиданная, одновременно скверная и горестная усмешка должна иметь психологическое объяснение — хотя бы такое же, какое мы даем предыдущей реплике игемона:
«Добрый человек? — спросил Пилат, и дьявольский огонь сверкнул в его глазах».
В этой фразе все понятно. «Дьявольский огонь» адресован Иуде из Кириафа, а саркастический вопрос — Иешуа. Вот, мол, тебе очередной добрый человек — капкан на тебя поставил…
Видимо, и следующий вопрос — о светильниках — продиктован тем же чувством горестного удивления: мол, куда же твой великий ум годится, если ты явной ловушки не углядел?
Для Пилата светильники — не пустяк, а очевидный атрибут ловушки. Почему? Намек на ответ есть у Иоанна: ночной арест Иисуса происходит при светильниках; преступника хотели опознать во тьме, среди толпы учеников. Да, но откуда Пилат знал, что светильники зажгли в доме, где людей было всего двое: провокатор и жертва?
Пилат был опытный законник, он правил страной уже давно. Он мог знать, что еврейский закон требовал освещенной ловушки — чтобы не произошла следственная ошибка. Вот статья закона: «Ни для кого из подлежащих смерти, по определению Торы, не устраивают засады, кроме совратителя. (Если тот хитер или не может говорить при них, то ставят свидетелей в засаде позади стены)…А он сидит во внутреннем помещении; и зажигают для него светильник, дабы видели его и слышали его голос… Начинают разбор его дела и кончают даже ночью»[23] (курсив мой. — А.З.).
Теперь сарказм Пилата понятен. Увидав торжественное освещение, следует рот замкнуть, а не рассуждать о власти кесаря… Ибо даже на «предметы неодушевленные и немые» надлежит взирать со страхом.
Итак, «светильники» мы расшифровали. Но при чем здесь второй пергамент, поданный Пилату секретарем? Чтобы принять это, надо обратиться к статье Талмуда. Из текста статьи явствует, что она была не общеупотребительной, а чрезвычайной («Ни для кого, кроме совратителя…»). Закон недвусмысленно определил тот единственный случай, когда могла применяться «засада». «Совратителем» именуется человек, призывающий к групповым языческим жертвоприношениям. Только так! При малейшем отступлении от этой формулы обвиняемый не считался чрезвычайным преступником. Правда, ловушку затевали еще при подозрении в «совратительстве», но именно затем, чтобы подозрение либо превратилось в уверенность, либо отпало. Если оно подтверждалось, обвиняемого следовало схватить немедля — «даже ночью»… Если нет — его отпускали.
Совершенно очевидно, что булгаковский Иешуа никак не мог призывать к языческим действиям; он поклонялся иудейскому невидимому единому Богу: «Бог один… в него я верю» (с. 448). Следовательно, для «засады» не могло быть повода, и при всех случаях немедленный арест был противозаконным. («…Тут вбежали люди, стали вязать меня и повели в тюрьму» — с. 447). То есть исполнялся не закон, а его фикция — тот же случай, что с «законом об оскорблении величия».
Показания Иешуа были получены в результате противозаконной операции. Основное нарушение закона кроется в том, как они вымогались.
Мы помним, что Иуда из Кириафа попросил Иешуа «высказать свой взгляд на государственную власть». По духу и букве кодекса, он не имел права задавать такие вопросы. Он мог добиваться только показаний о языческих жертвоприношениях (и был обязан возражать; уговаривать отступника, чтобы тот раскаялся. Арестовать раскаявшегося было нельзя).
Вся процедура была мошеннической, и самая отвратительная роль в ней — с точки зрения иудейского закона — принадлежала Иуде. Он и деньги получил лишь за то, что согласился нарушить установления Торы. Римский прокуратор карал не только доносчика, но и нарушителя закона во вверенной ему провинции.
Перейдем теперь к основному вопросу, нас интересующему: почему крамольные речи Иешуа были зафиксированы в отдельном документе. Иудейский верховный суд стремился соблюсти внешность законности. Он никоим образом не мог в коллегии, гласно, рассматривать материалы, добытые противозаконным путем. Протокол «засады», видимо, не фигурировал на суде: Иешуа был приговорен к смерти по материалам иного доноса — за слова о разрушении Храма. (Формально такие речи карались смертью.) Судоговорение и текст приговора были записаны в первом пергаменте, официальном документе Синедриона.
Второй пергамент, вероятнее всего, был протокольной записью следственной ловушки и к судебному делу отношения как бы не имел. Посылая документ игемону, Синедрион верноподданнически сообщал ему о политической крамоле, обнаруженной в ходе следствия. Современная юриспруденция именует подобные документы «частными определениями».
(Мне кажется, что Булгаков моделировал действие именно так: послали протокол, а не специально подготовленный документ. Только из протокола Пилат мог узнать имя Иуды. Помня о безумной скрупулезности иудеев, мы вправе предположить, что в протоколе упоминались и светильники — взяли, мол, кого надо, не спутали…)
Итак, первый пергамент был официальным решением по религиозному делу, относящемуся к компетенции местного суда. Римский правитель мог утвердить или опротестовать приговор по этому делу только в части смертной казни («право меча»). Но оправдать преступника начисто прокуратор не имел права. Поэтому он и намеревался приговорить Иешуа к ссылке в Кесарию (см. с. 445). Отметим это рациональное объяснение евангельской детали [61] и двинемся дальше. Политический донос, зафиксированный на втором пергаменте, формально не имел ни малейшего отношения к первому, завершенному делу. По нему прокуратор должен был открыть новое судоговорение, но уже как судья первой инстанции. Поэтому его сведущий делопроизводитель не мог подать второй пергамент до конца слушания первого дела. Становится понятен и вопрос: «Все о нем?» — прокуратор интересовался, не поддерживает ли обвинения храма римская полиция.
Словами «Слушай, Га-Ноцри…» игемон открыл новое судебное дело, находящееся целиком в его компетенции — вплоть до полного оправдания. Донос можно было и отринуть, ибо храмовые агенты действовали противозаконно, Синедрион их свидетельства даже не мог рассматривать… Поэтому игемон побуждал Иешуа к запирательству, пытаясь получить формальные основания для оправдательного приговора. Иешуа не захотел запираться, и тогда прокуратор, пользуясь терминологией Афрания, «переложился» — не вынес приговора по второму делу, но «объявил, что утверждает смертный приговор, внесенный в собрании Малого Синедриона» (с. 449).
Казалось бы, не важно, какой из приговоров к смерти вошел в силу — дважды не вешают… Но этот ход дал Пилату призрачную возможность спасти Иешуа, оставаясь как бы в стороне от спасения. Ведь право помилования принадлежало не ему, а Синедриону, причем только по первому делу. Судебная казуистика, может быть, не интересна читателю, но в такой ретроспективе становится заметен поворот Мастера к евангельской схеме суда. До сих пор мы разбирали детали — хотя и важные, — теперь речь пойдет о всей структуре. Уже в схеме синоптиков можно выделить два суда — религиозный и политический. Синедрион собирается на заседание, рассматривает дело о богохульстве [20], [21] и выносит официальный смертный приговор (см. Мф. XXVI, 59–66). Во второй — римской — инстанции выдвигаются политические обвинения, одно из которых должно нас заинтересовать: «развращает народ» [42]. «Развращает» и «совращает» — синонимы, если эти обвинения предъявляются проповеднику. То есть политическому обвинению придается религиозный оттенок. Впрочем, Иисус первых трех Евангелий является и религиозным, и политическим деятелем, и его вины, соответственно, рассматриваются двумя разными судами. Это — пока законно: «кесарю — кесарево, Божие — Богу»…