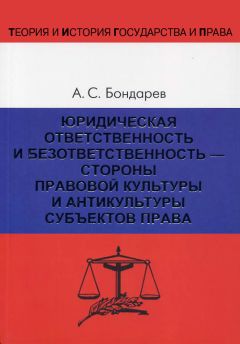Ознакомительная версия.
Итак, с античных времен онтологическим принципом справедливости выступает мера, однако с самого начала обнаруживается, что онтология ее находит опору и основание в практике неравенства. Эта практика возвещает нам об эскалации политического: ищущий общности мир оказывается разделен на своих и чужих, стремящаяся к миру общность делает ставку на войну и ведет ее любыми средствами.
С этой точки зрения, Платон обращает к нам философию меры ради самой меры, однако оказывается, что она выступает эквивалентом иерархии: существует иерархия – значит, существует и соразмерность. Аристотель, в свою очередь, идет еще дальше: мера для него представляет собой выражение законности неравенства. Как формулирует это сам Стагирит, справедливость выступает равенством для равных и неравенством для неравных.[18] При этом если для Платона принцип иерархии возводится, в конечном счете, к умению субъекта господствовать над самим собой, то Аристотель соотносит свою идею неравенства с господством над другими.
Впрочем, ни Платон, ни Аристотель не выводят философию справедливости из конкретных проявлений господства. Отдельный властитель для них вполне может быть несправедливым, но неизменно справедлив сам принцип господства. Иными словами, для Платона и Аристотеля рассуждение о справедливости – это способ категоризации власти, форма выявления наиболее общих ее характеристик. Проблема в том, что, практикуя категоризацию господства, эти философы связывают с ним саму возможность блага и справедливости. Власть (разумеется, правильно понятая и правильно организованная) выступает у них средоточием порядка, условием справедливости, олицетворением меры.
Обладание властью в соответствии с античной традицией равнозначно способности к культивированию добродетелей, однако обладание этими способностями – также удел избранных. Политика определяется в античной традиции как стремление к благу (описания которого проникнуты солярной, лучезарной метафорикой наподобие той, что применялась к характеристике богов-основателей). Однако подобное определение политики автоматически позволяет наделить благостным смыслом даже самые неприглядные стороны и проявления политической деятельности.
Примечателен в этом смысле воспроизведенный в платоновском «Государстве» спор между Сократом и Фрасимахом. Фрасимах утверждает, что различия между справедливостью и несправедливостью устанавливаются правящим политическим режимом. Справедливым оказывается то, что выгодно правителю, при демократическом правлении одни выгоды, при тираническом – другие, при аристократическом – третьи. Свои рассуждения Фрасимах завершает констатацией: «Установив законы, объявляют их справедливыми для подвластных – это и есть как раз то, что полезно властям, а преступающего их карают как нарушителя законов и справедливости. Так вот, я и говорю, почтеннейший Сократ: во всех государствах справедливостью считается одно и то же, а именно то, что пригодно существующей власти. А ведь она – сила, вот и выходит, если кто правильно рассуждает, что справедливость – везде одно и то же: то, что пригодно для сильнейшего» [Платон. Государство. С. 338].
Суть сократовского контраргумента сводится к тому, что властвующие могут ошибаться и в этом случае, действуя по справедливости, следует поступать против их воли. Сократ не отрицает того, что справедливость есть нечто «пригодное», что она не просто соотносится с практикой, но и сама таковой является. Сократ не отрицает также, что эта практика суть политика. Однако он не хотел бы соотносить политику с силой, с властью сильнейшего. Размышлять о власти сильнейшего – удел поклонников философии стражей. Сократ же на стороне философии царей (которые оказываются одновременно светскими жрецами, царствующими философами). Как у всего по-настоящему сущего, способом существования справедливости в представлении Сократа является идея. Соответственно для того, чтобы быть справедливым, нужно в первую очередь уметь созерцать. Созерцание обнаруживает соразмерность посреди хаоса и беспредела. И именно это созерцание меры выступает квинтэссенцией политической практики.
Ответ Сократа достаточно предсказуем, непонятно только, чего в этом ответе больше – заблуждения или лицемерия. Становясь политической, любая сила избегает прямолинейности; эффективность политики тем выше, чем дальше она от простого физического принуждения.
В то же время ошибочный выбор делает и Фрасимах: редуцируя справедливость к произволу сильнейшего, оппонент Сократа не отдает себе отчета в том, что отличает физическое насилие от политического принуждения, которое никогда не основывается на силе самой по себе, такое обращение к силе было бы непозволительной слабостью.[19] Напротив, подлинное могущество политиков берет начало не в физическом, а в метафизическом превосходстве (что бы конкретно ни понималось под «метафизикой»). Говоря по-другому, политика эффективна в том случае, когда она содержит в себе несколько стратегий или кодов самолегитимации, когда олицетворяемое политическим действием «искусство возможного» оказывается в состоянии узаконить собственные последствия и предпосылки.
Политическая легитимность строится на умении организовывать общее и всеобщее в противовес тем, кого специально в этих целях обозначают как отщепенцев и маргиналов. Вопреки Фрасимаху, невозможно исходить из того, что политика банально подменяет собой этику. Политика является практикой, которая нуждается в этике, поскольку именно она обозначает горизонт возможностей, отбираемых политикой и воплощаемых ею в реальности. Политика концентрирует в себе всю совокупность поведенческих тактик человеческого существа. Однако тактики ровным счетом ничего не стоят, если они не соотнесены со стратегическими задачами и целями. С инвестицией последних в политику связана этическая рефлексия, всерьез проблематизирующая смысл существования человека в мире. Проще говоря, этика нужна политике для того, чтобы голая сила трансформировалась бы в подлинное могущество, а банальный частный интерес оказался героической заинтересованностью в общем и (или) всеобщем. Подобные преобразования нисколько не отменяют политическую выгоду, которая только увеличивается по мере того, как любая этическая универсализация оборачивается монополизацией власти.
При формальной победе Сократа спор между ним и Фрасимахом не закончился. Он продолжился спустя многие столетия, когда на стороне Фрасимаха оказались Карл Маркс, Ницше и Мишель Фуко, а на стороне Сократа – Иммануил Кант, Георг Вильгельм Фридрих Гегель и Пьер Бурдье.[20] Актуальность этого спора заставляет нас обратиться к политологии добродетельного существования, видящей совокупность практических «нужд» во всем, что философия справедливости рассматривает исключительно как предмет теории.
Торжество добра
«Добродетель» отнюдь не смягчает политику, она никак не способствует умиротворению политической жизни. Напротив, делающая ставку на отстаивание добродетелей, политика получает невиданный ресурс эффективности. Этот ресурс состоит в возможности апеллировать к смыслу и одновременно операционализировать его в форме значений. Не существует никакой политики как чистой технологии, которая противоположна нравственности. Напротив, именно предельная технологизация политики открывает возможность для того, чтобы этика предстала перед нами как всеобъемлющая форма стратегического мышления и действия. Соответственно первым политическим технологом является отнюдь не Никколо Макиавелли, а Аристотель, выступивший основоположником не только политологии, но и этики.
Представляя себя ареной противоборства между добром и злом, политика отвоевывает возможность обладать и распоряжаться смыслом существования. Она выступает особой распределительной системой, отвечающей за осмысленность жизнедеятельности каждого члена общества и всего общества в целом. Излюбленный платониками образ философа-царя здесь как нельзя кстати. Философ-царь выступает не просто персонифицированным воплощением этой системы, его личность функционирует в качестве скрытой пружины, приводящей в действие политическую машину.
В соответствии с логикой раскрытия тайного сотрудничества этики и политики под наибольшее подозрение попадает отнюдь не мизантроп или подонок, а благонадежный, умеренный и нравственный субъект. Именно добропорядочное и «изряднопорядочное» существо, так называемый хороший человек, оказывается наиболее функциональным элементом любой политической системы, ее работником и по совместительству «шестеренкой». «Хорошего человека» не в чем упрекнуть: он готов универсализовать любой свой помысел и поступок, протестировать их из перспективы «общности» (в духе Аристотеля) или «всеобщности» (в духе Иммануила Канта).
Ознакомительная версия.