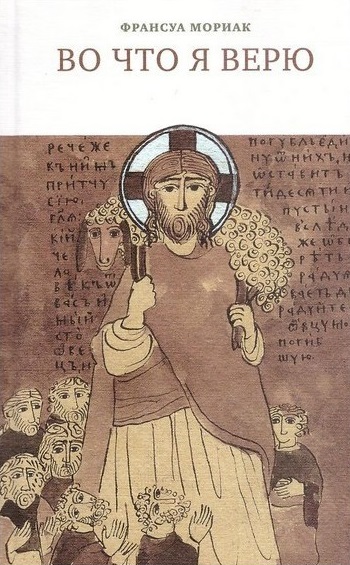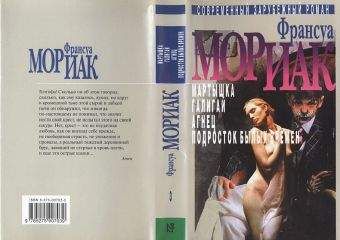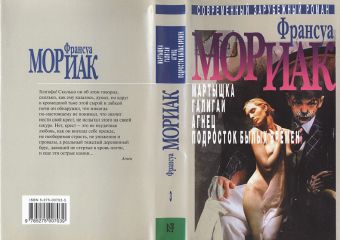верно для каждого верующего в отдельности. «Величие человеческой души…» Какими бы мы ни были посредственными, опустившимися и глупыми, есть в нас что-то, что привязывает Тебя к нам, Господи, и эта привязанность — привязанность Бога — вызывает в Тебе нежность к нам и трогает Тебя, и — это нежность Бога, являющегося одновременно Сыном Божиим и Сыном Человеческим. Мы не считали бы друг друга глупцами и занудами, если бы наш взгляд мог проникать в глубину души до той части Божией, которую Ты знаешь и в которой Ты пребываешь (если речь идет о душе в состоянии благодати), где Ты обитаешь…
Боже мой, я — писатель, а Ты являешься темой моей книжки, и я получу деньги за то, что написал ее. «Писатель, убийца и девица из публичного дома…» — это ужасное резюме Клоделя оставило в самом потаенном уголке моей души такой след, будто его выжгли железом. Но ведь этого писателя Ты любил с самого его детства. Ты вошел в его сердце утром 12 мая 1896 г., когда ангельские голоса пели [15]: «Небеса посетили землю». Теперь я ясно вижу, что с того времени, что бы я ни сделал, Ты никогда не думал о том, чтобы покинуть меня. Я понимаю, что все наши суждения — дерзость, в том числе и суждения о нас самих. Мы себя не знаем. Мы взваливаем на себя всякие провинности, словно для того, чтобы Ты был вынужден осудить нас. Все наши порывы — это какие-то увертки, и каждая прикрывает какой-то тайный расчет; мы не делаем ни одного жеста, который не был бы связан с позой, которая кажется нам самой выгодной перед Тобой или перед собственной совестью, или перед мнением других людей.
Что же тогда остается во мне, чем я мог бы хвалиться? Абсолютно ничего, кроме той нити неверности, накапливающейся за долгую человеческую жизнь, которая тянется от самого начала и которую ничто никогда не могло оборвать; и вот оставшийся материал весь в клочках. А та нить, которую держишь Ты, цела, — нить, к которой по-прежнему привязано наше сердце, ударов которого никто в мире не считает; сердце, которое всего лишь окаменелый сплав старых грехов, мертвая тяжесть осадков, — всего, что оставил за собой отлив; пена некончающейся молодости, всего, что уже прощено, но было, и чего уже нельзя изменить. Мы все высечены раз и навсегда и ни одной нашей черты не сотрешь.
Я верю, что я прощен. А из того, во что я уверовал, это не самое легкое. А ведь я должен быть тверже всего убежден в этом теперь, на склоне дней, когда я приобрел те привычки, которые были у моей матери в том возрасте, до которого я теперь дожил. Я бываю на тех же самых мессах, в черном зимнем рассвете или в ясное летнее утро, я, как и она, полон той тишины, которой должно было бы быть достаточно, чтобы чувствовать себя освобожденным от всякой тревоги и предать свою прожитую жизнь в руки Милосердия, Которое живет в нас и Которое есть — Ты, Хлеб жизни.
И, однако, во мне просыпается последнее сомнение: то, что мы называем внутренней жизнью, жизнь с Тобой, является причиной того, что я все время всматриваюсь в себя с каким-то маниакальным непрестанным вниманием, которое писатель сосредоточивает на собственной персоне — единственном материале своей работы. То, что нужно бы мне для спасения, становится маской, под которой скрывается культ самого себя, который преподавал мне учитель, когда мне было двенадцать лет, и который облагораживает слишком эффектной оговоркой мое равнодушие к другим.
Я не очень хорошо понимаю, благодать ли заставляет самое скверное в нас служить своим целям или сатана обращает к своей выгоде то, что нам дает благодать. Может быть, именно в переплетении этих противоположностей и сформировалась наша судьба, может быть в нем наши лица с неправильными и контрастными чертами зафиксировались навсегда. И поэтому я прошу Тебя, Боже мой, об этом последней милости: чтобы моя жизнь, в единении с Тобой, нашла, наконец, путь к моим братьям, чтобы она излилась на них, но не для того, чтобы их угнетать и раздавливать. Просто невероятно (но, однако, это правда), что меня всегда одолевал хмельной пыл полемиста, который затыкает рты противникам и отнюдь не заботится о том, чтобы переубедить их, расположить к себе, а только стремится победить их.
Боже мой, прошу Тебя об этом последнем чуде — научи меня, даже против моей воли, любви к ближнему, потому что я уже не могу придти к ней по своей воле, так как дары, полученные мною от Тебя, и призвание, которое я принял за свое, все это втягивает меня в споры, слишком часто перерождающиеся во вражду, а писатель никогда не может устоять перед искушением блеснуть и превзойти других.
Боже, кроткий и смиренный сердцем, научи меня этой кротости, этому смирению; я, наверное, был способен постичь ее, но ведь я любил кротость в других людях, я так ждал и даже требовал ее от них, но почти нигде не встречал этой кротости… Сам же я был очень безжалостен! В Тебе, о Боже, я нахожу разрешение этого противоречия моей природы, в Тебе нахожу источник новообретенной кротости, перед которой я с детства преклонялся и которую утратил.
И, наконец, я прошу Тебя дать мне силу и мужество пребывать в Твоем присутствии, а не прятаться от Тебя, не искать бегства в мечтах и творениях воображения, пустых и ничтожных, как я привык делать. Даже мы, которые будто бы любим Тебя, предпочитаем что угодно, лишь бы не оставаться с Тобой. Мы похожи на тех иудеев, которые боялись умереть и закрывали себе лицо, стоя перед Тобой. Боже мой, дай мне мирно сосредоточиться в Твоем присутствии, чтобы, когда прийдет мой час, я почти незаметно перешел от Тебя к Тебе, от Хлеба Живого, хлеба людей, к Тебе — Живой Любви, которую обрели уже те, из любимых мною, которые раньше меня заснули в Твоей любви. Аминь.
Я не хочу ничего вычеркивать из этой книжечки, но когда я ее перечитываю, у меня возникают сомнения в связи с двумя пунктами. Прежде всего, некоторые мои высказывания отличаются известной холодностью в отношении видимой Церкви или, по меньшей мере, предвзятым равнодушием и отсутствием интереса к ее организации и ко всему ее человеческому аспекту.
Я лучше понимаю это теперь, в час, когда в Риме начались работы Вселенского