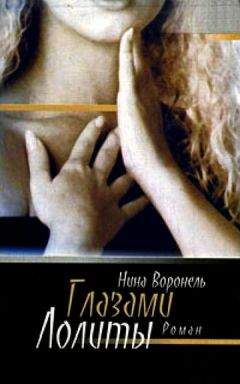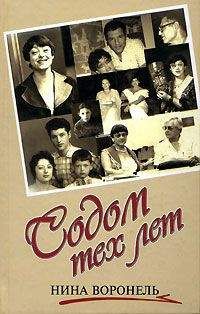Помнится, что некоторые заносчивые культурные лидеры нашего заезда, вроде Генделева и Каганской, по первопутку публиковали в газетах страстные филлипики, отрицающие какую то бы ни было ценность вновь прибывших. Отмежевываясь от их русской культуры и русского языка, культурологи-старожилы обзывали новичков беженцами, не ставящими перед собой идеологических задач. А безрассудная Нелли Гутина чуть не подверглась линчеванию, открыто назвав заезд 90-х «колбасной алией». Казалось, что назревает грандиозный кризис, ведь недаром говорят, что ссора – это обычное состояние эмигрантских общин, даже если они называются алией.
Но, к счастью, ссора не состоялась, нарыв со временем рассосался, частично благодаря нам. Случившийся так кстати уход Рафаила Нудельмана развязал руки Воронелю, который в размолвках с друзьями всегда предпочитал мирные решения. По его инициативе мы стали приглашать «новеньких» на заседания нашей редколлегии и терпеливо выслушивать их заносчивую похвальбу, приправленную наивными мечтами о мировом признании, ожидающем их в ближайшем будущем.
Тут я погрешила против истины, предположив, что они рассчитывали на грядущее признание для всего коллектива скопом. Ничего подобного - каждый провидел это признание только лично для себя. В собственном величии ни один из них не сомневался, с талантом и умением у каждого все обстояло отлично, просто раньше ему не давала развернуться советская цензура. Для полного совершенства всем им недоставало лишь мелочи – признания и денег. Этой мелочи многим из них не достает и по сей день.
Но сегодня они уже смирились - не с осознанием - упаси Бог! - скромности своей роли в мировой литературе, а с трудностями тернистого литературного пути. Тогда они были так полны распирающим грудь предчувствием своего грядущего триумфа, что всякое общение с ними высекало искры. Но мы твердо решили их приручить, и готовы были ради этого на разнообразные компромиссы, как с собой, так и с ними.
Не довольствуясь приглашением их к нам, мы стали напрашиваться на их посиделки. Однажды я предложила самой шумной группе «молодых гениев» прочесть на их еженедельном сборище какую-нибудь свою пьесу - для знакомства. Сборища эти проходили в крохотном душном кафе в южном квартале Тель-Авива – название кафе я запамятовала, помню только, что хозяин его был идишистским поэтом. Дело было летом, на улице стояла нестерпимая жара, в кафе было еще жарче, поскольку кондиционера там не предполагалось.
Когда мы с Воронелем вошли туда, все общество было уже в сборе. Выглядели они приятно – средний возраст от тридцати до сорока, лица выразительные, неординарные. После нескольких минут вступительного разговора, в котором самые дерзкие из них дали нам понять, какие они авангардисты и нарушители общепринятых канонов, я попросила Воронеля, который читает с листа гораздо лучше, чем я, прочесть мою пьесу «Змей едучий».
Пьесу я выбрала не случайно, а с расчетом на авангардизм слушателей, - она уже была отмечена общественным одобрением, дважды пройдя испытание на хороший вкус. Именено ее напечатал Михаил Шемякин в «Аполлоне» и именено ее с успехом поставил на сцене иерусалимского театра «Паргод» Слава Чаплин в первые годы нашей жизни в Израиле.
Воронель произнес первые реплики, принадлежащие паре пьяных, сидящих под вечер на берегу Волги:
«Е-мое, ты кефаль знаешь?»
«Да что кефаль? Разве это баба?».
«А какие у ей кишки, знаешь, е-мое?».
« Ну, знаю».
«А вот и не знаешь! Нет у нее кишок, е-мое! Нет,и все!»
«А мне кишки без надобности, мне лишь бы титьки на месте были»
«Нет, титек у кефали нет, е–мое, это точно!»
В кафе стало так тихо, что слышно было, как на кухне из крана капает вода. Я оглядела присутствующих авангардистов и нарушителей канонов – их славные нестандартные лица застыли в стандартной гримасе коллективного испуга. Их молчание не было знаком повышенного интереса, оно выражало обыкновенный обывательский шок – такого они слышать не привыкли. А ведь Саша успел прочесть только начало пьесы, он не добрался даже до завязки, не то, что до кульминации, происходящей вокруг волнующей темы – кто в камбузе кучу наклал?
Это было задолго до появления Владимира Сорокина на литературном горизонте, и я вдруг осознала, е-мое, что тема «кучи в камбузе» моим слушателям не по зубам. Сама не знаю, как это вышло, но, пораженная произведенным эффектом, я вынула у Саши из рук книгу:
«Не надо больше читать. Сегодня слишком жарко».
Удивительно, но он понял меня без дополнительных объяснений и безропотно закрыл книгу. Никто не возразил - авангардисты вздохнули с явным облегчением. Я, собственно не имею к ним претензий. Ведь они чуть ли не накануне пересекли границу недавнего Советского государства, и понятия не имели, как сурово эта граница отделяла их от современного искусства. То, что казалось им смелым, уже давно ушло в прошлое, но они еще были не в состоянии это постигнуть. Им еще было невдомек, что своей смелостью они могут поразить только идишистского поэта, продающего пиво в кафе без кондиционера и не слишком хорошо владеющего русским языком.
С тех пор утекло много воды. Некоторые посетители того душного кафе, пройдя мучительный процесс инициации, вынырнули из стоячего болота бывшей советской литературы и продолжают ждать чуда, некоторые, отчаявшись, нашли себе другие утешительные занятия и перестали заноситься. Грозой в воздухе больше не пахнет – мы все оказались в одной не слишком устойчивой лодке, и никого уже не интересует, кто первый сказал «Э!».
Да и российская литература сегодня сама стала потихоньку выбиратья из постсоветского болота. Кроме того, ржавые ворота бывшей империи со скрипом раздвинулись, отворив для нас узенькую щелочку, и наши книги медленно, по одиночке, начали просачиваться на русский рынок. Так что для нас на повестке дня встал другой важный вопрос – как не пропустить момент и на ходу вскочить в литературный российский поезд, пока он еще не набрал скорость?
Казалось бы - что нам в этом чужом поезде? Для того ли мы уехали оттуда, чтобы снова стучаться в эту негостеприимную дверь? Но тут-то и вся заковыка – мы, может быть, уехали не для того, но не смогли уехать от себя. Как сказала когда-то востроязыкая Нелли Гутина: «Мы все больны кириллицей».
Да дело не только в нас с нашими болезнями, дело в нашем израильском читателе, который живет только сведениями оттуда, оценками оттуда, табелью о рангах оттуда. И кто не достучался до тамошних издательств, тому не полагается ничего и на израильской книжной бирже. Вот вам и парадокс!
* * * *
Я написала эти строки несколько лет назад, но не хочу к ним добавить сейчас более ни одной. Не потому, что мне нечего сказать, а потому что жизнь преподала мне жестокий урок. Перевирая античную цитату, народная мудрость гласит: «О мертвых - или хорошо, или ничего». А истинная цитата заботится не столько о мертвых, сколько о неосторожных авторах, осмелившихся упомянуть живых, имея в виду, что нелестно упомянутые живые могут и укусить в ответ. Ах, как меня искусали эти живые, причем зачастую упомянутые весьма и весьма лестно, но в иронической манере.
Со своей иронической манерой я никак не могу совладать. Похоже, она-то и есть моя истинная авторская сущность - как я ни топчу ее, как ни загоняю внутрь, она всегда выбирается наружу и утверждает свое первенство. Меня долго огорчала моя собственная неизбывная ирония, пока я не прочла где-то, что Марк Твен написал «самые непочтительные путевые заметки». И я пристроилась к нему в фарватер – можно считать, что я написала самые непочтительные воспоминания.
Потирая ушибы и зализывая раны, я пришла к выводу, что такой формулировкой можно гордиться, но не стоит эту непочтительную манеру культивировать дальше - выходит себе дороже! Страшно подумать, скольких дорогих моему сердцу друзей я потеряла , сколько обид причинила и получила рикошетом в ответ. Особенно от тех, о ком писала с особой любовью – горько сознавать, что они, нежно мною любимые, так ничего и не поняли.
И я решила о живых больше не писать – потому что их реакция непредсказуема. Это очень грустно – смотреть, как кружатся, вьются вокруг, мои предполагаемые герои, и не сметь поднять на них перо. Единственное утешение, что и пера уже нет, есть только компьютерная мышка, у которой нет души.