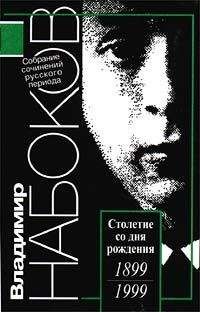Футбол как будто мелочь, пустяк, — ну, ошибся, ну, написал чепуху, — но, увы, прочтя такое описание (а оно длинно, подробно), думаешь: “полно, уж не так же ли невежественен автор и во всем другом? Автору перестаешь доверять, как мужики перестали доверять тому мальчику, который кричал: “Волк, волк!”, — когда никакого волка не было. На протяжении всей своей скучной и плоской книжки автор не переставая кричит: “Волк!” Ему больше повезло, чем мальчику из нравоучительной сказки: волк Яновского так до конца книги и не появляется.
1937 ПАМЯТИ А. О. ФОНДАМИНСКОЙ
(Впервые: сборник "Памяти Амалии Осиповны Фондаминской". Париж, 1937. С. 69–72.)
В октябре 1932 года я приехал на месяц в Париж. Илью Исидоровича я уже несколько лет как знал; с Амалией же Осиповной встречался впервые. Есть редкие люди, которые входят в нашу жизнь так просто и свободно, с такой улыбкой,[5] точно место для них уготовлено уже очень давно, — и отныне невозможно представить себе, что вчера мы были незнакомы: все прошлое как бы поднимается сразу до уровня мгновенья встречи и затем, вновь отливая, уносит с собой, к себе, тень живого образа, мешает его с тенями действительно бывшей и минувшей жизни, так что получается, что ради одного этого человека (по самому своему существу, априори, родного нам) создается некое подставное время, объясняющее задним числом чувство естественнейшей близости, прочной нежности, испытанной теплоты, которое при таких встречах охватывает нас. Вот какова была атмосфера моего знакомства с Амалией Осиповной. Накануне, помнится, я впервые побывал на Rue Chernoviz,[6] Амалию Осиповну не застал и, беседуя с И. И., любовался ее сиамским котом. Темно-бежевый, с более бледными оттенками у сгибов, с шоколадными лапами и таким же хвостом (сравнительно коротким и толстоватым, что, в соединении с мастью бобриковой шерсти, придавало его крупу нечто кенгуровое), он неизвестно на что глядел прозрачными глазами, до краев налитыми сафирной водой, — и эта диковинная лазурь, да немота, да таинственная осмотрительность движений, делали из него и впрямь священного, храмового зверя. О нем-то мы, вероятно, прежде всего и заговорили с Амалией Осиповой. Лицо ее сияло приветом, умная улыбка скользила по губам, глаза были внимательны и молоды, грациозный голос ласков и тих. Что-то было бесконечно трогательное в ее темном платье, в ее маленьком росте, в легчайшей поступи. Как все приезжие в незнакомом городе, я жадно пользовался чужими телефонами, — попросил и теперь позволение позвонить, а когда опять сел чайному столу, Амалия Осиповна, молча и без лукавства, протянула мне письмо, которое я никак не полагал могло быть у нее, — мое письмо к Степуну, однажды попросившего меня просмотреть английский перевод его «Переслегина», перевод, показавшийся мне неточным, — а так как одной из двух переводчиц являлась Амалия Осиповна, то Федор Августович[7] и передал ей письмо с моим нелестным отзывом, сказав ей, по-видимому, что мне неизвестно, кто делал перевод. Этот поворот разговора сразу вывел его на простор веселой откровенности, причем выяснилось, что Амалия Осиповна тонкая ценительница того, что можно назвать искусством гафф. Мы обсудили с ней те, которые я в русском Париже уже успел совершить — по рассеянности, по отсутствию житейского чутья, — и просто так — здорово живешь. Между тем к коту опустилось, подобно полной луне, блюдечко с молоком, которое он стал лакать, соблюдая дактилический ритм. И он, и вся обстановка квартиры — все предметы — от письменного прибора Амалии Осиповны до большого мата у дверей, под которым русские парижане доверчиво прячут ключ, — все носило неуловимую, но несомненную печать доброты и душевности, которой отличаются вещи в доме у людей лучистых, щедрых на свои лучи. С прозрачнейшей — до дна — душевной добротой сочеталась у Амалии Осиповны нежность к миру, — любовь к "своенравным прозваньям" (как выразился Баратынский), стремление особенным, собственным образом все заново именовать в мире, — словно она верила — и может быть не зря — что улучшением имени можно улучшить его носителя.
Я стал бывать у Фондаминских почти ежедневно, а к концу моего пребывания в Париже и совсем к ним переселился: Амалия Осиповна с умилительной — но и беспрекословной — заботливостью решила, что я «замотался», что мне нужно «отдохнуть» перед тем моим публичным чтением, в устройстве коего она и ее друзья принимали ничем мной не заслуженное участие. Как же я запомнил прелестную, покойную комнату, осененную книжными полками — и заботу, продуманную до мелочей — до бутылки минеральной воды, до lotion для волос, до душистого талька. И с каким жаром она продавала билеты, и как отчетливо сохранилась в памяти картина: в тихой, теплой гостиной Амалия Осиповна переписывает для меня на машинке несколько страниц из «Отчаяния», а на камине греется кот. И с каким-то острым чувством стыда, раскаяния — не могу определить — вспоминаю, как я много в квартире курил, не знал,[8] что прокуренный воздух ей вреден — она же, разумеется, не говорила мне ничего. Вообще боюсь, что я жильцом был тяжелым — но она так изящно прощала мне все. Как-то — для примера — я, вернувшись очень поздно, когда в доме все уже спали, — хотел в прихожей потушить свет, а выключателей было несколько, не знал какой, попробовал один, другой, — в окрестных комнатах начали просыпаться лампы, я испугался, что эдак освещу весь дом и, оставив свет в передней, отправился спать — но потом обеспокоилась совесть — я встал, вернулся в переднюю, стал осторожно испытывать выключатели — и было неприятно, что один из них никакого видимого действия не производил, а — впоследствии обнаружилось, что при первом опыте я зажег — и благополучно потушил — свет у Амалии Осиповны в спальне, а когда вернулся в прихожую, осветил ее спальню снова и уже так оставил, — и она погодя проснулась и погасила сама, с совершенным юмором отнесясь к этой кошмарной иллюминации.[9]
Скоро уехал из Парижа, и мое последнее воспоминание: маленькая темная фигура Амалии Осиповны на платформе: поехала меня провожать. Я уже больше никогда ее не видел. И вот сейчас хочется слабыми человеческими руками удержать еще на несколько мгновений все это, — все это чудное и такое валкое, — готовое вот-вот беззвучно рухнуть в темный и мягкий ров забвения (но что-то главное останется в душе навсегда, как бы жизнь не заметала следы,[10] как бы ненадежна ни оказалась яркость еще нынче столь памятных подробностей)[11]
1932 ПАМЯТИ А. М. ЧЕРНОГО
(Впервые: “Последние новости”, Париж, 13 августа 1932.)
Кажется, нет у него такого стихотворения, где бы не отыскался хоть один зоологический эпитет, — так в гостиной или в кабинете можно иногда найти под креслом плюшевую игрушку, и это признак того, что в доме есть дети. Маленькое животное в углу стихотворения — марка Саши Черного, столь же определенная, как слон на резинке. Но сейчас я вспоминаю не книги его.
Как ни противны мне всякие “личные выступления” (и жеманство виноватых кавычек), однако считаю непременным своим долгом сказать о той помощи, которую мне оказал А. М. лет одиннадцать-двенадцать тому назад. Один из лучших наших поэтов не так давно писал о глухонемом невнимании признанных к начинающим. Есть два рода помощи: есть похвала, подписанная громким именем, и есть помощь в прямом смысле: советы старшего, его пометки на рукописи новичка, — волнистая черта недоумения, осторожно исправленная безграмотность, — его прекрасное сдержанное поощрение и уже ничем не сдерживаемое содействие. Вот этот второй — важнейший — род помощи я получил от А. М. Он был тогда вдвое старше меня, был знаменит — слух о нем прошел “от Белых вод до Черных” (на берегах последних возникали даже лица, выдававшие себя за него). Он жил в Шарлоттенбурге, в 60, кажется, номере по Вальштрассе; против его окошка высилась кирпичная стена, в комнате было темновато; я приносил ему стихи, о которых вспоминаю сейчас без всякого стыда, но и без всякого удовольствия. С его помощью я печатался в “Жар-Птице”, в “Гранях”, еще где-то.
Он не только устроил мне издание книжки моих юношеских стихов, но стихи эти разместил, придумал сборнику название и правил корректуру. Вместе с тем я не скрываю от себя, что он, конечно, не так высоко их ценил, как мне тогда представлялось (вкус у А. М. был отличный), — но он делал доброе дело, и делал его основательно. Мне неприятно, повторяю, соваться со своей автобиографией, да и кажется, не я один могу вспомнить его помощь, — мне только хотелось как-нибудь выразить запоздалую благодарность, теперь, когда я уже не могу послать ему письма, писание которого почему-то откладывал, теперь, когда все кончено, теперь, когда от него осталось только несколько книг и тихая, прелестная тень.