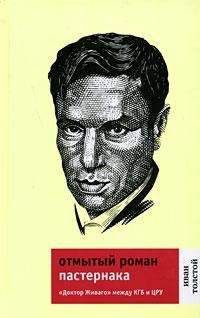Попав в Москву, Жаклин де Пруайяр основное время посвящала тому, чтобы понять страну, пробовала наладить отношения с толстовскими музеями Москвы и Ясной Поляны (сама она позднее станет ответственной за Музей Льва Толстого при парижском Институте славяноведения и членом Бюро Ассоциации друзей Толстого), посещала университетские семинары С. М. Бонди, В. В. Виноградова, Н. К. Гудзия, Г. Н. Поспелова, познакомилась с недавним репатриантом Никитой Ильичем Толстым, внуком писателя.
«Через три недели после моего приезда в Москву и устройства в университете я задалась вопросом, сумею ли я пробить глухую стену замкнутого советского общества и понять, по выражению Толстого, „чем люди живы“. Я была полна решимости этого добиться» (Письма к де Пруайяр, с. 128).
В один из декабрьских дней «любовь к музыке и поиски тайной России» привели Жаклин в музей Скрябина, где она познакомилась с молодыми поклонниками Пастернака.
«В этом святилище имя Бориса Пастернака произносилось горячо и с восхищением. Мои собеседники без конца повторяли, что мое пребывание в России будет лишено смысла, если я с ним не познакомлюсь» (там же).
О Пастернаке Жаклин знала уже по гарвардским лекциям Якобсона, и относилась она к нему «как к великому, но трудному для понимания писателю». Здесь же, на кухне скрябинского музея, Жаклин впервые увидела рукопись «Живаго», но этот экземпляр дожидался другого читателя – Дмитрия Вячеславовича Иванова, сына знаменитого поэта, работавшего московским корреспондентом газеты «France Soir». «Тем не менее, пока не пришел владелец, я тут же на месте прочитала некоторые страницы».
Наконец, 1 января, встреча состоялась. Жаклин приехала в Переделкино в сопровождении молодого поэта Николая Шатрова и двух его приятелей.
«Нам открыл сын Пастернака Леонид. Он провел нас в комнату, стены которой были увешаны рисунками его деда Леонида Пастернака, и пошел наверх за отцом. Вскоре в дверной раме появился силуэт Бориса Леонидовича. Светло-серая домашняя куртка гармонировала с серебром его волос. Белая рубашка оттеняла загар лица и блеск ореховых глаз. Открытость взгляда и почти неудержимая живость сразу меня покорили. Четкость черт его лица и некоторая властность подбородка смягчались, однако, рисунком губ, свидетельствовавших о решительном характере, но в то же время и о жизнелюбии. Ничего лишнего, неуместного не было в облике этого человека. Сдержанность движений, особенно длинных и тонких рук, говорила о самообладании и силе внутренней жизни. Этот человек, очевидно, жил не во внешнем проявлении, его широкая душа готова была преобразить все то, что шло к нему извне. С первых слов его лицо оживилось. Взгляд засверкал весельем. Обаяние и горячая нежность баритонального тембра его прекрасного голоса сразу победили смущение, которое поначалу охватило меня, впервые оказавшуюся в присутствии поэта» (там же, с. 129).
Обедали, Пастернак вспоминал Париж, писательский конгресс 1935 года, Мандельштама, сталинский звонок, наконец, перешли к разговору о романе.
«Пастернак спросил нас, влияние какого прозаика мы можем усмотреть в его романе. Мой сосед указал на Толстого, но этот очевидный ответ не удовлетворил Пастернака, который повернулся ко мне и спросил: „А чье еще?“» (там же).
От ответа Жаклин, как оказалось, зависела судьба русского издания книги. Кажется, и Борис Леонидович, и Жаклина Яковлевна (как он ее не раз называл) почувствовали возникшее напряжение. Пастернаку явно понравилась французская гостья, и он хотел, чтобы она не ошиблась с ответом.
«Меня охватило беспокойство, я сосредоточилась, интуитивно чувствуя, что правильность моего ответа может привести в будущем к чему-то огромному и чрезвычайно важному. Я весьма приблизительно представляла себе роман Пастернака, а его самого видела в первый раз. У меня в голове вертелись только какие-то отрывки из „Живаго“, и мне виделась возможность совпадения только на самом глубоком духовном уровне. После всего того, что было перечислено от Верлена до Блока, на Пастернака мог влиять лишь писатель редкой, из ряда вон выходящей исключительности. Несмотря на очевидную парадоксальность, я рискнула назвать Чехова.
– Молодец! Вы правильно отгадали, – вскричал Пастернак и рассказал нам, как он перечитывал Чехова, когда начинал писать свой роман. Сын лучших чеховских героев, Живаго обладал всеми их достоинствами и недостатками. В силу этой преемственности, а также из почтения к Чехову Пастернак сделал своего героя врачом» (там же).
Почти случайную догадку Жаклин Пастернак оценил как мистическую связь с гостьей. Для тех начал, из которых вырастал замысел романа, Чехов действительно значил очень много. От бывшего кумира Андрея Белого, от авангардистов Пастернак окончательно отвернулся в конце 30-х годов, что, как поясняет Лазарь Флейшман, было связано с причинами внелитературными – с арестом Мейерхольда, со страшной гибелью Зинаиды Райх (неизвестные, ворвавшиеся к ней в квартиру, выкололи ей глаза) и ожиданием собственного конца. «Арест режиссера, – говорит Флейшман, – заставил его не прервать, а, наоборот, ускорить работу над „Гамлетом“».
Однако теперь Шекспир в пастернаковской интерпретации становился совершенно другим. С работой над «Гамлетом», по флейшмановским словам,
«завершается освобождение Пастернака от ощущения внутренней связи с авангардистским поколением и замещение его самоотождествлением с чеховской эпохой в искусстве. Толчком к этому послужили, между прочим, исключительно сильные впечатления, вынесенные поэтом от знаменитой постановки „Трех сестер“ в Московском художественном театре в 1940 г. С МХАТом и его руководителем Немировичем-Данченко, антиподом Мейерхольда в искусстве, оказалась тесно переплетенной судьба пастернаковского „Гамлета“ после трагедии с Мейерхольдами. Текст, который мыслился при своем возникновении в контексте мейерхольдовских театральных принципов, с 1940 г. оказался включенным в русло совершенно иной эстетической традиции». (Флейшман. От Пушкина к Пастернаку, с. 707).
Угадав то, что ей известно быть не могло, Жаклин заслужила радостное признание Пастернака. Духовный контакт был установлен. В следующий месяц с небольшим взаимное понимание и доверие росло между ними безостановочно.
Один за другим Жаклин прочитывает оба тома машинописного романа, и уже 9 января (через неделю после первого знакомства) предлагает свое участие: она готова рекомендовать книгу Галлимару и сама с друзьями (Элен Пельтье, Мишелем Окутюрье и Луи Мартинезом) хочет стать переводчицей на французский.
«Пастернак очень обрадовался, узнав, что я больше десяти лет дружу с Элен, сказал, в каком он от нее восхищении, но не сказал, что он уже дал ей экземпляр романа. В ответ на мое предложение, которое полностью совпадало с его намерениями, Пастернак рассказал мне о Брисе Парене, писателе и философе, которого он знал издавна и который был членом редколлегии издательства Галлимара.
Пастернак открыл мне тогда, что существует договор, который он подписал 30 июня 1956 года с миланским издателем Джанджакомо Фельтринелли на издание «Доктора Живаго» по-итальянски. (...)
Прочтя этот договор, я поделилась с Борисом Леонидовичем возникшими у меня сомнениями. Мне казалось рискованным вручать судьбу «Доктора Живаго» на Западе в руки молодого издателя, недавно добившегося громкой известности, без того, чтобы сохранить нравственный контроль над изданием текста такой значительности» (Письма к де Пруайяр, с. 130).
Не забудем эти многообещающие слова Жаклин о нравственном контроле над изданием.
«Я боялась, – продолжает Жаклин, – что Фельтринелли уже почуял, как удачна его находка, и что успехи издательства интересуют его больше, чем глубокий смысл произведения» (там же).
Перед большой поездкой по стране Жаклин снова приехала в Переделкино.
«В этот вечер (16 января. – Ив. Т.) Зинаида Николаевна и Леонид были дома. В ходе разговора снова возник вопрос о роман и его будущем, а также о мучениях, которых, вероятно, не удастся избежать мужественному автору. Борис Леонидович сказал мне в их присутствии, что он полностью понимает, какой опасности он подвергается и сам и заставляет подвергаться своих близких, и что в семье это обсуждалось. Он идет на этот риск с полного согласия своей жены и сына, что подтвердили и Зинаида Николаевна и Леонид.
На следующий день мы снова обсуждали роман, но на этот раз с глазу на глаз. Я знала его уже значительно лучше, у меня не было сомнения, что это произведение, которое с такой душераздирающей силой передает страдания русского народа, найдет широкий круг читателей на Западе и что авторский гонорар будет соответственно велик. Пастернак показал мне свой экземпляр договора, заключенного с Фельтринелли. (...) В пределах того, что мы могли предвидеть зимой 1957 года, было ясно, что если роман будет иметь успех, то авторская доля составит большую сумму денег. Как распорядиться ими в будущем? Пастернак сомневался в том, что по законам своей страны он когда-либо сможет получить что-нибудь существенное из гонораров, и у него никогда не будет возможности использовать их по своему усмотрению. Пастернак об этом не слишком заботился, потому что был по природе бессребреник, но это отнюдь не означало, что он оставался равнодушен к этой стороне дела, и использование денег, которые должен принести ему «Доктор Живаго» за границей, было ему далеко не безразлично. У него было вполне определенное желание знать, что они служат благой цели, филантропической, художественной или религиозной» (там же, с. 131).