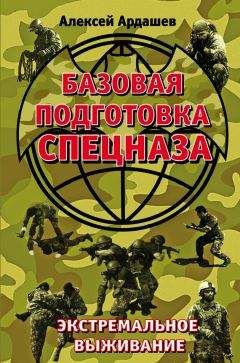Если бы Тютчев, Достоевский или такие славянофилы, как Хомяков, а еще лучше Ив. Киреевский, — менее блестящий в мыслях, конечно, но более глубокий в чувствах, с мыслями связанных, — если бы вышли они из могил и взглянули на современный мир, то в соответствии со своими основными утверждениями должны были бы признать, что христианского лагеря, христианского «стана» на земле больше нет: осталось два сатанинских лагеря или, на крайность, один полностью сатанинский — в России, другой полусатанинский — на Западе.
По Тютчеву, по Достоевскому, по славянофилам, в неумолимом следственном согласии со всей этой линией русской мысли, сатана уже победил и сейчас происходит нечто, вроде «домашнего спора» между подвластными ему силами, без того, чтобы спор этот мог иметь решающее значение. Решающие события уже произошли, а что произошли они иначе, по другому, чем хотелось бы и чем было предсказано, дела не изменяет.
Исчезла христианская, царская, православная Россия. Новая Россия неожиданно обошла Запад слева и заставила его для борьбы с ней, а то и просто для разговора с ней, сделать крутой поворот на сто восемьдесят градусов. Но при этом Запад остался таким же, как был. Поворот изменил его позу, то положение, в котором он стоял, но не изменил его сущности.
Всё, что отвращало. Тютчева, осталось или даже усилилось. Вспомним: народовластие, основной демократический принцип — для Тютчева принцип безбожный, ибо это «власть
человеческого «я», бесконечно умноженного в числе». А человеческое «я», предоставленное себе, в корне враждебно христианству, и французская революция была не чем иным, как «апофеозом этого я». Кого Запад признал своими духовными вождями? Папу Григория VII и Лютера. Никогда Россия не согласится счесть Лютера за подлинного христианина, да и католичество осталось ей чуждо именно потому, что оно Лютера в себе несло, было им беременно, поскольку с самого начала возвеличило разум и на нем основало свое здание. Лютер — плоть от плоти католичества и был в нем логически — неизбежен (это, впрочем, мысль не Тютчева, а Ивана Киреевского, и мысль очень верная).
Об этом толковали русские мыслители сто лет тому назад, а с тех пор ничто не изменилось. Смирение, столь им дорогое, никого в западной культуре не соблазнило. «Эти бедные селенья, эта скудная природа» исчезли в России за всякими электрофикациями и Днепростроями, и если то, о чем сказано в последней строке тютчевского стихотворения — навеки незабываемого, чудесно одушевленного, будто насквозь светящегося! — если об этом глупо и кощунственно было бы говорить в применении к нашей земле, то не менее глупо и кощунственно было бы и делать географические перестановки.
Для этих видений нет больше места в мире. По Тютчеву и по всем его единомышленникам, игра проиграна, темные силы восторжествовали, а если между собой они не ладят, то от исчадий ада и ждать нельзя мирного сожительства.
Не думаю, чтоб эта философия — в наши дни, по ходу истории, оказавшаяся столь скорбной — пришлась кому-нибудь по сердцу. Не думаю, чтобы кто-нибудь попытался ее гальванизировать. Мысль приноравливается к обстановке, ищет в ней опоры, пищи и выхода… Но нельзя при этом искать какой-либо поддержки в великом русском религиозно-политическом вдохновении прошлого века. И нельзя на него ссылаться, говоря об изменении ролей.
LXXVI.
Более полутораста лет тому назад Карамзин, под непосредственным впечатлением французской революции, задумался над вопросом, который стоит перед нами и до сих пор: как могло случиться, что идеи и принципы несомненно благотворные, привели к невиданным в истории ужасам? в чем дело? случайно ли это?
«Век просвещения, я не узнаю тебя! В крови и пламени, среди убийств и разрушений я не узнаю тебя! Кто мог думать, ожидать, предвидеть? Где люди, которых мы любили? Где плод наук и мудрости? Сердца ожесточаются ужасными происшествиями… Я закрываю лицо свое…».
Много позднее Герцен, у которого не было оснований относиться к Карамзину с особой симпатией, вспомнил эти слова и признал, что они «бьют в самую точку». Еще позднее, в 1904 году, Лев Толстой записал в дневнике своем мысль, если не совсем однородную, то все же задевающую те же самые темы:
«Французская большая революция провозгласила несомненные истины, но все они стали ложью, когда стали вводиться насилием».
Вероятно, Карамзин согласился бы с Толстым. Но за ним остается то преимущество, что он в отмеченных и Толстым фактах увидел загадку, и в явно взволнованных словах передал ее на рассмотрение и возможное разрешение людям следующих столетий.
В самом деле, если и верно, что «насилие превратило истину в ложь», то надо бы спросить себя: откуда возникает насилие? почему? Есть ли надежда, что в будущем торжество свободы и равенства обойдется без насилья, подобно тому, как в России, в 1917 году, на несколько дней почти все поверили, что революция действительно останется «бескровной»?
Карамзинская загадка разрешается порой до крайности элементарно, так сказать по-обывательски. Объяснение должно будто бы свестись к тому, что властью завладели негодяи, жестокие, беспринципные, ненасытно-честолюбивые люди, которые ради ее удержания согласны на всё решительно. Кое-что в этом наблюдении может быть и верно, но беда-то в том, что это не столько объяснение, сколько именно наблюдение. Ничуть не идеализируя и не драпируя под добродетельных овечек ни Робеспьера, ни Ленина, надо бы всё-таки вглядеться в сущность вопроса, на которую поверхностные психологические замечания ответа не дают. Сделаем для ясности все необходимые уступки: признаем, что и в идеях, робеспьеровских или ленинских, «плоды наук и мудрости», оказались искажены, что в их личной окраске это – идеи фанатические, узкие, пусть даже изуверские… Но вопрос и после этого остается вопросом, во всей своей неумолимой, поразившей Герцена простоте. Революции совершаются во имя чего-то несомненно хорошего, правильного, нужного и справедливого. Почему вырождаются они во что-то злое и отталкивающее? Каким образом из добра возникает зло? Неужели действительно потому, что во главе доброго дела становятся злые люди? И если даже это так, чего же эти злые люди в конце концов хотят?
Как во всяком сложном историческом явлении, причины тут, конечно, скрещиваются и сплетаются. Нет единой, решающей причины, их множество, и в каждом отдельном случае причины общие, постоянные, скрыты другими, связанными с данной эпохой и ее деятелями. Но кое-что, общее и роковое, выделить можно.
Народные волнения и перевороты сколько-нибудь длительные и глубокие движутся и одушевляются двумя идеями: идеей свободы и идеей справедливости, или иначе — равенства. Но понятия эти вовсе не дополняют одно другое, как мы часто по инерции считаем, а друг друга исключают. Никакой гармонии между ними достичь нельзя, до тех пор, по крайней мере, пока человек останется таким, каков он сейчас, и оттого-то третий член великого революционного символа веры – «братство» — в наше время стыдливо опускается и заменяется другим, менее лицемерным, не «брат», а «товарищ», или всего только «гражданин». Если бы достижимо было братство, всё было бы сглажено, все противоречия сами собой разрешились бы, и свобода с равенством, чисто по– карамзински, в слезах обнялись бы и установили бы между собой вечный мир. Но братства нет, а равенства человек не хочет.
В этом, вероятно, самая сущность, само острие вопроса: равенства человек не хочет или, во всяком случае, им не удовлетворяется. Он мечтает о нем, он требует его, пока от недостатка социальной справедливости страдает, и пока верит, что всеобщее правильное распределение всякого рода благ должно положение его улучшить. Если представить себе горизонтальную черту, символизирующую уравнение всех людей в обладании земными сокровищами, человек стремится к этой черте, пока находится под ней, ниже ее. Достигнув ее, он рвется вверх, не говоря уже о том, что находящиеся наверху ни малейшего желания спуститься не проявляют, разве что в самых исключительных случаях, примером которых должны бы остаться в истории наши декабристы, доказавшие, что не всегда все-таки «человек есть то, что он ест».
Русская революция вначале сделала ударение на свободе и в лице первых ее руководителей была именно идеей свободы одушевлена. О горизонтальной черте равенства мало кто думал, а если и думал, то мысленно допускал ее лишь там, где она могла бы быть проведена безболезненно: равенство избирательных прав, например. Всё февральское, какими бы подземными толчками подготовлено оно ни было, предстало под ярлыком свободы, и потому мало кого испугало, а, наоборот, почти всех обрадовало – кто же, в самом деле, свободы не хочет? Но октябрь, на словах от свободы не отрекшийся, совершился во имя равенства, и никакие захваты власти, ни даже успехи в гражданской войне не были бы возможны, если бы мечта о равенстве, в самых примитивных ее формах, не владела десятками миллионов людей, не подозревавших, чем обернется она в будущем. Октябрьский переворот мог бы, конечно, кончиться неудачей, по причинам случайным, то есть местным, временным, психологическим, военным, каким угодно другим…