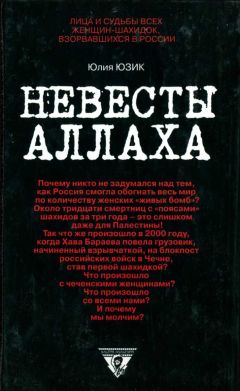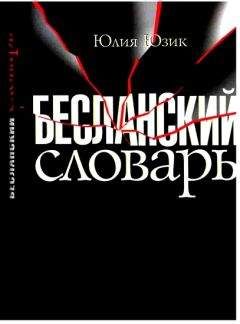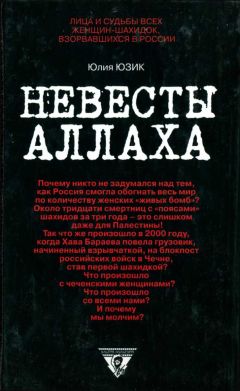Беда пришла откуда и ждали. Одному из ее сыновей — 13-летнему Альберту — какой-то боевик заплатил 100 долларов зато, чтобы он подошел к милицейской «шестерке» и застрелил сидящих в ней двух чеченцев-участковых.
Волчонок, я же говорю: взял деньги, подошел и выстрелил. Наповал. В упор.
Этот выстрел надо считать точкой отсчета гибели Яхи, ее детей и их будущего.
12 марта 2002 года пацаны Угурчиевы выходили из подъезда родного дома по ул. Дьякова, 16. Мальчишек ждали люди в черных масках. Скрутили, и младших — 14-летнего Абдула, 13-летнего Тимура и 12-летнего Альберта — посадили в машины с тонированными стеклами. Люди говорили как на русском, так и на чеченском языке.
26 марта их троих нашли в Шелковском районе Чечни: какой-то пастух видел, как мешки с трупами скинули с вертолета.
В мешках были Яхины сыновья. Точнее, то, что от них осталось.
Вскрытых, с пустой брюшиной и толстыми швами от паха до шеи.
На это невозможно было смотреть. С ожогами, синяками, с разбитыми носами, выпотрошенные — трое мальчиков Угурчиевых.
Ну ладно — месть. Это война, это Чечня. Я еще могу это как-то понять. Как и то, что голодный волчонок, озлобленный на людей в форме, стрелял ПО ЧЬЕМУ-ТО заказу.
Накажите. Посадите. Вы же взрослые, мать вашу так.
Но кишки зачем вынимать? А печенку? А селезенку? А сердца этих троих мальчишек — они где?
Что с ними сделали?
Один из братьев УгурчиевыхПочему пацаны — пустые?! Почему — зашитые мастерским хирургическим швом?!
Кто учинил эту страшную провокацию?
Кто подкинул этих детей обратно, зная, что все чеченцы, увидевшие ЭТО, никогда не смогут ЭТО простить и забыть?
Яха Угурчиева, увидев своих сыновей ТАКИМИ, поседела. Мать разве может такое пережить?
Я нашла оставшихся трех братьев Угурчиевых в лагере беженцев в Ингушетии. Прожив после гибели младших братьев на кладбище месяц, они нашли приют у… людей Аслана Масхадова.
Те дали им облезлую каморку и защиту от МВД и военных. Масхадовские правозащитники держат их как живое свидетельство зверств российских военнослужащих: демонстрируя журналистам следы пыток на их телах.
Старший — Адам — сидел передо мной в сентябре 2002-го не живой, не мертвый. Человек без будущего.
— Я не знаю, зачем живу, потому что в моей жизни нет смысла и надежды. У меня осталось только одно — месть. Я знаю, кто сдал моих братьев русским. Его зовут Абу-Бакар, он из Ленинского РОВД. Он в отместку сдал моих братьев русским. Они сразу не разобрали, кто есть кто, поэтому взяли всех троих. Братья же погодками были. Я живу только тем, чтобы найти и убить этого Абу-Бакара. Мать? Она умерла еще в тот день, когда увидела моих братьев потрошеными. Как цыплят. Она гладила их лица и повторяла: «За что так?». У нас ничего уже нет — ни дома, ни семьи, ни матери, ни братьев. Мы живем только для того, чтобы умереть.
Второй брат
Глаза Адама вспыхивали, когда он говорил о мести, и тут же гасли.
Увидев фотографии вскрытых и зашитых мальчиков, я поняла, чего нужно ждать.
— Где их мать? Где она — Яха?
— Она в Дагестане, — туманно ответили мне люди, давшие кров старшим мальчишкам.
— А что она там делает?
Мнутся. Юлят.
— Ну, ей надо прийти в себя после всего.
Позже я узнаю: Яха Угурчиева, женщина примерно 45–50 лет, после убийства сыновей так и не смогла оправиться от горя. Поседела. А несколько месяцев спустя начала сохнуть и желтеть. «У нее нашли онкологию», — по секрету сказали мне.
После этого Яха куда-то исчезла. И вывезли ее из Чечни люди из джамаата. Уехала она то ли в Баку, то ли в Дагестан.
Я тут же вспомнила Айзу Газуеву, на которую, «узнав, КАК погиб ее муж, словно коршуны набросились люди из джамаата».
Эти люди рыщут по Чечне в поисках таких, как она. И ничего просто так не сделают. Не приютят ее сыновей, не устроят ей выезд в спокойное место, не будут показывать фото ее выпотрошенных детей на конференции правозащитников за границей.
Я спрашиваю саму себя: где сейчас Яха, которой уже действительно нечего терять? К чему готовят ее? И когда она придет к нам — чтобы напомнить о своих сыновьях?
Третий брат
«Мое сердце сгорело вместе с телом дочки» — Хейди ИсраиловаТак и было. Сила — старшая дочь Хейди — погибла сразу. В ночном пожаре.
Дом вспыхнул из-за попавшего в него снаряда, вылетевшего из БТРа. В БТРе сидели солдаты. Выпили — решили пострелять. Стреляли — попали в спящих дочерей Хейди.
— Сила — ей 24 было — погибла не мучаясь. И детишки ее — тоже. А Хава — нет. Она горела, как факел. Ее потушили. И она уже четыре месяца… Живет? Или уже умерла? Не знаю… У Хавы сгорело 32 процента дыхательных путей — так нам врачи сказали. И выписали ее — говорят, что умирать лучше дома. Но Хава мучается и… живет. До сих пор. Мы ее из трубочки кормим. По капельке. Видите, во что она превратилась, — и Хейди приоткрывает одеяло.
Девочка со сгоревшей кожей и розовыми влажными струпьями. Она так исхудала за эти месяцы, что превратилась в обтянутый ошметками кожи скелет. На ней тонкая хлопковая сорочка и нет трусиков. Хава стесняется, отводит глаза к стене и едва не плачет.
— Я одна детей поднимаю, мужа еще несколько лет назад убили. Тяжело смерть видеть. Тяжко мужа, детей хоронить, — в тишине, пахнущей лекарствами, плачет Хейди. — Но я ненависти не испытываю к русским. А вот солдат, особенно если они выпившие, — боюсь и ненавижу. Я и детям своим говорю: нельзя ненавидеть всех людей подряд, если тебя обидел кто-то конкретно. Но они не очень слушают. Я за них боюсь — дети подрастают, видят Хаву и хотят отомстить. Они мне говорят: «За что, мама? Что она им сделала? Мама, Хава была такой красивой, а теперь она похожа на скелет и скоро умрет!».
Хейди Исраилова со своими детьми. Сгоревшая Хава — за тем белым окномЧто мне отвечать им? А у нас ваххабиты в Мескер-Юрте стали еще агрессивнее. Люди злые, обиженные — они их к себе зовут. У нас в прошлом году российские военные мужчин из села забрали, на окраине в яму загнали и заживо подожгли. И все это видели. И все от ненависти готовы на что угодно. И дети мои — я за них боюсь. Боюсь, что придут, позовут, и они пойдут — за Силу, за Хаву отомстить.
…Вот уже четыре месяца прошло, как 15-летняя Хава застряла между тем и этим светом. Юный цветок, так и не успевший расцвести. В доме, где живут еще пятеро братьев и сестер, сырой, фиалочный запах смерти. Хава все ждет, когда за ней «придет женщина в белом».
Эту фотографию я делала на крыльце дома Исраиловых. Хава лежала за тем белым окном. Плакало небо — начиналась осень. Я и сама еле сдерживалась, чтобы не разрыдаться. В объектив фотокамеры на меня смотрели братья и сестренка Хавы. А в глазах Хейди я видела боль, тоску, отчаяние, крик — казалось, скорбь всех женщин Чечни запечатлена в ее глазах.
«Без мужа я уже никто» — Луиза Атабаева о событиях, произошедших весной 2002 года в селе Мескер-Юрт и разбивших ее жизньНевысокая, темноволосая, с грустными черными глазами. Вышла замуж год назад. Прожить с любимым человеком успела всего несколько месяцев. А потом пришла весна. Цветущий май 2002 года.
— У нас в селе зачистка была, — сидя под черными виноградными лозами в палисаднике, тихо рассказывает Луиза. — Пришли и к нам. Постучались для приличия, а потом в дом ворвались. Парней наших — моего Сулеймана и брата его Сулумбека — вывели за двор, где уже БТР дожидался. Их туда — и уехали. Я кричала, плакала, все наши женщины выбежали и вслед за БТРом бежали. Без толку. Потом посчитали — 11 наших мужчин забрали. Все молодые, лет по 20–30. У многих уже жены, даже дети есть. Мы сразу поняли, что нужно ждать беды. А об этом… Мы чуть позже узнали. У нас на окраине села яма большая вырыта. Так вот всех наших мужчин согнали в эту яму. Как, зачем? Ненавидят они нас, поэтому и делают то, что понять умом невозможно.
Пятнадцатилетняя Хава умрет, так и не начав житьНу вот, согнали всех. Яма глубокая. Стали перекличку устраивать, документы проверять. Потом объявили, что все наши мужчины — ваххабиты. «А что мы с ваххабитами делаем?» — вот так спросил военный, который там был. Всех жителей потом отогнали от этой ямы, так, чтобы не было видно, что там происходит.
Мой Сулейман так и остался в той яме стоять по пояс голый. И другие парни тоже там стояли. А потом мы увидели дым. И крики. — Она замолкает, сжимает пальцы и отворачивает голову, чтобы я не видела ее слез.
— Они горели заживо. Их облили то ли соляркой, то ли керосином, и они горели. Крики стояли так долго, что казалось — все сейчас сойдут с ума. И мы — женщины — кричали. Так громко, чтобы они слышали, что мы с ними.