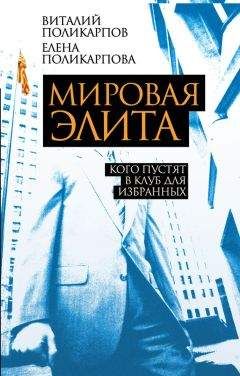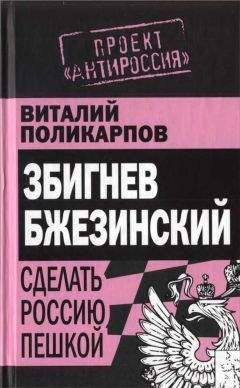Ознакомительная версия.
Американский прагматизм противоположен по своему смыслу европейской метафизике, которая является весьма непрактичной, не укладывающейся в контекст утилитарно-практической культуры. «Американская культура была одержима идеей практических действий и с презрением относилась ко всему метафизическому. Компьютер и язык программирования — это яркие проявления прагматического понимания разума. Каждая строка кода должна иметь практическое значение. Функциональность — вот единственный стандарт. Мысль о том, что строку кода можно оценить не за ее полезность, а за присущую ей красоту, совершенно непостижима»[133]. Это подтверждает неаутентичный характер американской цивилизации и культуры, ориентированной на эффективность, сугубо практический результат.
Именно это варварство способно обеспечить Америке благоприятный сценарий существования и дальнейшего развития в посткризисном мире. «Прагматизм, компьютеры и Microsoft (или любая друга американская корпорация) идут к достижению цели кратчайшим путем играют очень важную роль и обладают высокой эффективностью. Раздробленность американской культуры очевидна, но она постепенно переходит в варварское состояние, свойственное компьютеру и инструменту, который, в конечном счете, использует и определяет образ действия компьютера — корпорации. Корпорация — это американская адаптация европейской концепции. В своей американской трактовке она превращается в стиль жизни. Корпорации столь же раздроблены, как и остальная американская культура. Но в своем разнообразии они выражают ту же агрессивную самоуверенность, что и любая американская идеология»[134].
* * *
Великой темой североамериканской цивилизации (и культуры) являются вещи и их приобретение, т. е. «в наибольшей из всех когда-либо существовавших культур степени североамериканская является вещной культурой» (П. Рикс-Марлоу)[135]. Главной темой жизни являются вещи — они преобладают в ней: эта великая тема вещей и способа обращения с ними вошла в сцену ноу-хау, представляющую собой «воплощение мастерства и показухи». Грезой же североамериканской культуры является американская мечта «жить все лучше и лучше», что означает повышение уровня материального благополучия и что находит свое выражение в игре (шоу), с которой связан менталитет «трюкача-обманщика»[136].
Именно шоу и имитация представляют собой постмодернистский подход к миру, который противоположен аутентичности (подлинности) и аутентичной идентичности. Не случайно, выше подчеркивалась мысль о том, что американская цивилизация есть «гигантский симулякр». В данном случае доминирует не понятийное мышление, когда понятие имеет денотат, когда оно «схватывает» некий аспект реального мира, а постмодернистская философия, оперирующая «пустым знаком» и мыслительным пространством, где, согласно Ж. Делезу, «идентичность образца и подобие копии будут заблуждениями»[137].
Такая природа американской цивилизации проявилась в так называемой «гламурной цивилизации», признаки которой имеются в истории человеческого общества. Ярким примером этого является придворная жизнь в золотой век Японии — эпоха Хэйан (IX–XII вв.). Аристократия этой эпохи жила в продуманной до мелочей обстановке, соответствующей ее социальному статусу. Просторные залы дворцов были расписаны красками с вкраплениями золотой фольги, что создавало атмосферу сверкающего великолепия, присущего императору. «Жизнь знати складывалась из тысячи маленьких пустяков: игра ароматов и перламутра, соперничество поэтов и каллиграфов, забавы на балах, прогулки и любование первыми цветами, урок игры на флейте и т. п. Однако в помпезной дворцовой жизни им придавали большое значение. Красота и совершенство во всем были непременными требованиями этикета. Нет ничего ничтожного, наоборот, есть меланхолическое ощущение бесценности мимолетных нюансов хрупкого и эфемерного мира: непостоянство, бренность, мимолетность были буддийскими понятиями. Эпоха Хэйян поставила эстетические ценности выше этических. И научные знания Китая, и достижения эзотерического буддизма в познании человека интересовали ее не больше, чем жизнь целого народа — нищего и голодного»[138].
Подобного рода примеров можно привести достаточно много: это и придворная жизнь французского короля Людовика XIV, и русской императрицы Екатерины II, и повелителя империи моголов Акбара, и китайского императора и пр.[139] Все они подчинялись стратегии потребления, имеющей демонстративный характер власти и богатства.
Раньше стратегия потребления в качестве процедуры социализации была частью общих программ социальной матрицы, поэтому предзаданная идентификация определяла тотемную, сословную или классовую «экипировку». Использование денег в качестве всеобщего эквивалента вызвало к жизни более тонкую социальную дифференциацию: потребительские предпочтения и количественные индикаторы совпадали с социальной идентификацией. «Уровень потребления, обретенный в очагах постиндустриального общества меняет ситуацию — выборка дискретных единиц из общего «товарно-сырьевого» фона, перестав быть связанным приложением к наличному типу дистрибуции власти, становится завершающим актом собственно товарного производства, решающим моментом признания изделия (услуги) товаром… В момент опознания происходит считывание значимого дресс-кода, а также фуд-кода, дринк-кода и эмо-кода, каждая расшифрованная запись на свой лад гласит: это круто, здесь находится счастье…»[140].
Здесь речь идет о рыцарях потребления как авангарде гламура — якобы важнейшей производительной силы. С позиции искусства гламур представляет собой китч, подделку и дешевку, так как он носит профанный характер, отрицает сакральное[141]. В гламуре прекрасные вещи «являются объективациями, следами разной степени мимолетности присутствия супермодели»[142]. Они представляют собой химерные структуры, им присуще очень краткое время полураспада, они эфемерны по своей природе. Именно гламур используется в качестве оружия в современных информационно-интеллектуальных войнах.
Гламур присущ, прежде всего, в цивилизации Запада, чье изобилие основано на существовании «архипелага нужды» (Б. Марков). В контексте современного общества этот «архипелаг» бедности охватывает большую часть населения Африки, Индии, Китая и России. «Однако ни голод африканских детей, ни промышленные отходы западных стран, свозимые в Африку, ни прокаженные на улицах Азии — не мешают «обществу потребления» существовать и развивать философию достатка… на основании разделения мира на сепарированные области разных культур и резерваций бедности»[143].
* * *
Можно утверждать, что в цивилизационный код Запада и Америки теперь входит философия достатка, которой придерживается не только элиты, но и глобальная элита, или, по выражению Д. Роткопфа, «суперкласс», который имеет космополитическую аутентичную идентичность.
Согласно исследованиям Д. Роткопфа, этот «суперкласс» насчитывает примерно 6000 человек и состоит из 1000 миллиардеров, чей совокупный капитал почти вдвое превышает обобщенный капитал беднейших 2,5 миллиарда человек, руководителей государств, исполнительных директоров крупнейших компаний мира, медиамагнатов, нефтяных баронов, управляющих хедж-фондами, верхушки военных, предпринимателей в области новых технологий, выдающихся религиозных деятелей, некоторых ученых, художников, вождей террористических организаций и глав преступных синдикатов[144].
Члены этой глобальной элиты обладают эфемерной властью в силу того, что одни умирают, другие уходят в отставку со своей должности, третьи не могут пережить финансовой или профессиональной катастрофы, четвертых насильственно смещают с их постов, пятые попадают за решетку.
«Как правило, это люди блестящего ума, неукротимой энергии, творчески относящиеся к своему делу. Они вдобавок настоящие баловни судьбы, и большинство из них это прекрасно осознает… Однако многие члены суперкласса по-своему не менее зашорены — они тоже преследуют собственные интересы и очень далеки от мира, в котором обитает большинство населения планеты»[145].
Члены суперкласса наглядно демонстрируют чрезмерное неравенство в распределении богатства и власти на планете, что чревато непредсказуемыми последствиями. «При удачном раскладе, кто знает, может быть, и сами члены суперкласса прозреют достаточно, чтобы осознать, что существующее неравенство не только несправедливо, но и представляет собой фундаментальную и наиболее опасную угрозу их собственным долгосрочным интересам»[146].
Ознакомительная версия.