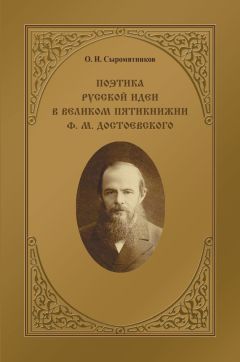Но, с другой стороны, вымещение русской религиозно-философской мысли на Запад стало абсолютно логичным следствием гораздо более глобальной причины. А причиной была попытка отменить самоё религиозную словесность как факт культуры, причем не только ту, которая имела оттенок инакомыслия (книгу некогда опального священника Д. Дудко «О нашем уповании», 1975; доклад Комитету прав человека члена-корреспондента АН СССР И. Шафаревича «Законодательства о религии в СССР», многочисленные работы о. Александра Меня), но и на политически «инакомыслящую», включая труды отцов церкви, богослужебную и вероучительную литературу. И опять «западнорусские» издательства восполняли пробел: фототипическим способом воспроизводили трехтомные «Творения» Августина Блаженного, четырехтомные — Афанасия Великого, беседы святителя Григория Паламы, сердечного православного мистика, особо чтимого в Древней Руси… Не только это: выходил и «Полный молитвослов» (1970), и переиздавался дореволюционный пятитомник «Христианские праздники»; у нас же все шепотом поздравляли друг друга с Рождеством и красили яйца на Пасху, но почти никто толком не знал, в чем смысл обряда. Да что — там! Величайшая из книг человечества, давшая закваску всех основных общих ценностей, — Библия — была почти недоступна все эти десятилетия.
Так, может быть, вот она — область полного, после довательного и по-своему честного запрета?
Нет, и здесь все гораздо сложнее. И Библия, и вероисповедальная литература, и религиозно-философская в принципе были доставаемы, в той же мере, в какой и любая другая «нелегальная» словесность. Нашим властям хватало того, что самый процесс доставания и чтения «священных» книг содержал в себе элемент риска, причем с куда большим радиусом действия, чем тот же процесс в сфере мирской. Там сохранялась еще какая-то возможность выбора между официальным и неофициальным, здесь выбора не было, и любое соприкосновение с такой словесностью обретало привкус социального полупротеста, сладостного, как всякий соблазн[48]. Такая экзотически-опальная, театрально-волнующая, ничему, кроме карьеры, не грозящая смелость — гораздо дальше от христианского идеала страдания за Христа, принятия крестной муки; идеала, ведшего первохристиан в клетки с голодными зверями, в катакомбы, — чем искренняя и стыдящаяся самое себя трусость. В приходе к религии как бы в отместку социализму заведомо содержалось нарушение евангельской заповеди «отдайте кесарево кесарю, а Божие Богу». В то самое время как Богу безуспешно предлагали кесарево, кесарь без сопротивления забирал себе Богово.
Но и этого мало. Господствующей идеологии удавалось «одним махом семерых убивахом».
На происходившее болезненно реагировали неверующие свободолюбцы, и им давали печатно излить свой гнев. Во-первых, потому что они для «проходимости» готовы были обставлять свои свободолюбивые статьи революционно-демократическими цитатами и объективно лили воду на мельницу атеистической пропаганды[49], а во-вторых, потому что они оскорбляли чувства верующих интеллигентов, вызывая в них ответный гнев, — не только на самих себя, но и на всю представляемую ими традицию российского свободолюбия. «Свое же угрызоша» (есть такая древняя формула), и «угрызоша» так глубоко, что теперь, когда мы получили возможность восполнения религиозного пласта нашей культуры, приходится давать двойную мотивировку необходимости ее осуществления — для верующих и для неверующих. Иначе и те и другие поднажмут с двух сторон, и сами вытолкнут из культуры возвращенное в нее с таким трудом. Одни — потому что не видят нужды в демократической культуре для религии, другие — потому что не видят нужды в религиозной словесности для демократии.
Первых смущает сама необходимость доказывать, что без такой литературы невозможна полнота культурного самосознания в обществе, большинство которого составляют люди, религиозно индифферентные. Как так: вечное должно доказывать свою необходимость временному? Свет невечерний — тени смертной? Не проще ли вообще отвергнуть культуру, чьими «производителями» и «потребителями» на равных являются люди с несовместимыми убеждениями и в составе которой, следовательно, все духовные ценности обязаны носить всеобщий характер?
Отвергать всегда проще. И легче легкого выйти из ее (культуры) пределов, стать по ту сторону черты, образовать духовную оппозицию культуре. В прошлом веке русская Церковь так и поступила, но, как бы ни были при этом справедливы ее резоны, она неизбежно потерпела сокрушительное поражение, потому что, хороша культура или нет, праведна или греховна, — но вне ее нет истории, и нельзя покинуть одно, не расставшись с другим. Не о том ли с болью писал Пушкин в знаменитом письме Чаадаеву: «Наше духовенство до Феофана (Прокоповича. — Л. А.) было достойно уважения (…) Согласен, что нынешнее наше духовенство отстало. Хотите — знать причину? Оно носит бороду, вот и все. Оно не принадлежит к хорошему обществу».
«Принадлежать к хорошему обществу» — то есть входить в культурный ареал; не войти в культуру — значит, в конце концов, выйти и из Церкви: массовый отход от ее врат интеллигенции России лучшее (худшее?) тому подтверждение. Да и трудно ли вспомнить, чьими непослушными сыновьями были в массе своей богоборствующие разночинцы?
Впрочем, ныне приходится сталкиваться и с противоположной, куда более благородной, но, по-моему, столь же нереалистичной позицией.
На «круглом столе» «Дружбы народов» (1989, № 6) выступила Олеся Николаева, одна из самых заметных в новом поэтическом поколении. Абсолютно точно говоря о «квазирелигиозной» подоплеке новейших националистических умонастроений в России, она видит выход в том, чтобы культура от «квази» перешла к «просто» религиозности, чтобы Церковь и стала генератором нового русского культурного самосознания. Тогда человеку не будет нужды компенсировать невечность, краткосрочность и «неоправданность» своего бытия через «причастие» кровью родства, а значит, и через причастность к вечной жизни рода и нации. Что тут возразить? Православно, точнее — осмысленно православно верующий человек не может быть националистом. Нынешний культ нации, а до него — культ личности, стали суррогатом, разрушенного религиозного культа, — все это правда. Но история нам продемонстрировала, что массовое неосмысленное православие, подобно и исламу, и иудаизму, и любой другой религии, в ситуации, когда человек лишен выбора, принадлежать ли ему религиозному слою культуры или не принадлежать, само может превращаться в «квазирелигиозное» прикрытие той же самой националистической веры в культ предков и становиться источником ксенофобии, национализма и шовинизма. Если (в современных условия это невозможно, но представим себе) между Церковью и сегодняшней культурой будет поставлен знак равенства, то, не говоря уж о неизбежной религиозно-общинной розни, внутри Православия повторится дореволюционная трагедия: «церковное» станет маской «мирского», внутренне переродится в свою противоположность, в бытовое идиллическое благообразие протестантствующего мещанства. Уж лучше атеизм, чем такая религиозность. По крайней мере, он честнее.
Что же касается до противоположной, «мирской» стороны, то мы, кажется, дошли до такого состояния, когда уже и доказывать ничего не нужно, — результаты отлучения религии от культуры сами вопиют к нам, достаточно напрячь слух — и услышать, открыть глаза — и увидеть[50]. Самые очевидные — языковые — последствия блистательно проанализировал литературовед Гасан Гусейнов в статье, опубликованной «Знанием — силой» (1989, № 2). Г. Гусейнов напоминает, что в здоровом языковом сознании различаются три слоя: священный («сакральный»), мирской (общеупотребительный) и низовой («профанный»). Питательная почва сакрального слоя — религиозные, философские тексты; нет почвы — нет и слоя, и что тогда? Мирской слой — пресен, нейтрален, невыразителен; остается профанный — как единственно красочный, способный выразить нерядовые переживания. Массовидная матерщина — не результат огрубления нравов; мат занял то место, какое в нормальном обществе занимают «библеизмы»: он стал языком дьяволовато-священным, выбившимся из грязи в князи. Но языковое мышление находится в прямой связи с «просто» мышлением, мышление — с представлениями о системе ценностей, и меченый атом идет по цепочке…
Причем, в отличие от прошлого столетия, в нынешнем ситуация вывернулась как бы наизнанку, и строители «новой культуры» сами изгнали Библию (и Коран, и Талмуд…) из стен своего града; изгнали в тот самый момент, когда после стольких десятилетий пребывания в стане «нонкультуры» Церковь повернулась лицом к интеллигенции, а интеллигенция — лицом к Церкви (здесь можно назвать и такой, великий феномен отечественной истории рубежа веков, как Оптина пустынь, которая стала центром притяжения художников, писателей, музыкантов, и принятие пастырского сана мирскими по воспитанию и образованию интеллектуалами П. Флоренским и С. Булгаковым). Изгнанничество — не бегство; «изгнании правды ради», вопреки ожиданиям изгоняющих, уносят с собою частицу огня, горевшего у жертвенника, и, значит, продолжают духовно пребывать в покинутых пределах. Напротив, может случиться так, что гонители окажутся плохими хранителями огня и рано или поздно с изумлением обнаружат, что сами стоят по ту сторону черты, поскольку культура пребывает же там, где стоит остывший жертвенник, а там, где горит огонь.