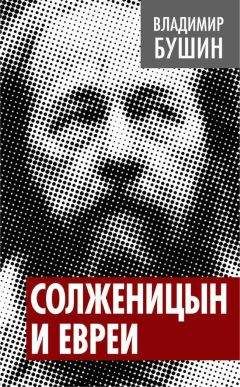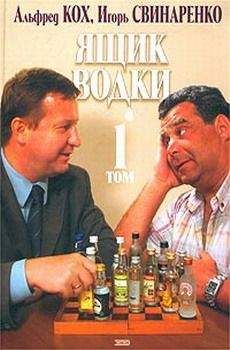— Уж не фальшивый ли? — спросил я.
— Гм… Это, однако же, надо исследовать… — бормотал пристав и кончил тем, что присоединил его к делу.
Мы вышли. Нас провожали испуганная хозяйка и человек ее, Иван, хотя и очень испуганный, но глядевший с какою-то тупой торжественностью, приличною событию, впрочем, торжественностью не праздничною. У подъезда стояла карета; в карету сели солдат, я, пристав и подполковник; мы отправились на Фонтанку, к Цепному мосту у Летнего сада.
Там было много ходьбы и народу. Я встретил многих знакомых. Все были заспанные и молчаливые. Какой-то господин статский, но в большом чине, принимал… беспрерывно входили голубые господа с разными жертвами.
— Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! — сказал мне кто-то на ухо.
23 апреля был действительно Юрьев день…
Нас разместили по разным углам в ожидании окончательного решения, куда кого девать. В так называемой белой зале нас собралось человек семнадцать…
Вошел Леонтий Васильевич… (Дубельт).
Но здесь я прерываю мой рассказ. Долго рассказывать. Но уверяю, что Леонтий Васильевич был преприятный человек».
В обстоятельности повествования, в падении одного из «прозорливых господ» с печи, в «симпатическом» голосе другого, в «красивых бакенбардах» третьего, в иронической реплике по поводу пятиалтынного, в «тупой торжественности» Ивана, в упоминании о Юрьевом дне, в добродушно-насмешливом комплименте шефу жандармов Дубельту, наконец, в нежелании продолжать рассказ — сколько во всем этом выдержки, достоинства, превосходства над «необыкновенными людьми», умения спокойно, с усмешкой взглянуть со стороны на то даже, что оказалось началом столь тяжких мук.
Могут сказать: «А велика ли цена выдержке, иронии, если дело-то было много лет назад?» Да, рассказ об аресте был записан Достоевским 24 мая 1860 года — спустя одиннадцать лет. Но…
Александр Солженицын поведал о своем аресте через двадцать восемь — срок почти в три раза больший, и тем не менее в его рассказе не только не оказалось выдержки, превосходства или иронии, но и обнаружилось нечто в известном смысле противоположное. И это тем более разительно, что ведь для Достоевского арест обернулся каменным мешком Алексеевского равелина (почти год!), изуверской, доведенной вплотную до команды «пли!» инсценировкой смертной казни, кандалами, тяжким каторжным трудом, смрадной казармой, тремя блохастыми досками на общих нарах, тараканами в щах, наконец, унизительной, бесправной солдатчиной, — а Солженицын ничего этого не изведал. И, однако же, вот каков его рассказ:
«Комбриг вызвал меня на КП, спросил зачем-то мой пистолет, я отдал, не подозревая никакого лукавства, — и вдруг из напряженной в углу офицерской свиты выбежало двое контрразведчиков, в несколько прыжков пересекли комнату и четырьмя руками одновременно хватаясь за звездочку на шапке, за погоны, за ремень, за полевую сумку, драматически закричали:
— Вы арестованы!
И обожженный и проколотый от головы к пяткам, я не нашел ничего умней, как:
— Я? За что?..»
Тут многое удивительно. И то, что рассказчик отдает комбригу пистолет без малейших сомнений; и то, что с него сорвали ремень; и то, что арестовали его не по-тихому, не в укромной обстановке, как водится, а в присутствии целой «офицерской свиты», для которой устроили спектакль; и то, что контрразведчики не просто подошли и объявили об аресте, а «выбежали» сразу двое из «свиты» и тарзаньи-ми «прыжками» пересекли комнату, словно опасаясь сопротивления уже обезоруженного человека, да еще при этом «драматически» заорали в две глотки. Право, эти «драматические» голоса гораздо менее достоверны, чем «симпатический» голос у Достоевского.
А какой тут еще и совершенно кошмарный фон! Оказывается, сцена ареста разыгралась в сложнейшей фронтовой обстановке: «окружили не то мы немцев, не то они нас». И все это совершалось «под дыханием близкой смерти»: «Дрожали стекла. Немецкие разрывы терзали землю метрах в двухстах». Жутко сказать, смерть дышит не то в лицо, не то в затылок, а этим мерзавцам из контрразведки хоть бы хны, им только бы сцапать Александра Исаевича, горемыку. Интересно еще и то, почему в столь ответственный момент сражения вокруг комбрига собралась целая свита офицеров, когда всем им надлежало быть на своих постах в боевых порядках рядом с солдатами. А как и зачем стали бы выводить из окружения, если это окружение, арестованного антисоветчика? Не лучше ли было вывести честных солдат?
Но есть и другая версия ареста. Ее мы находим в книге Натальи Решетовской «В споре со временем»: «Все произошло неожиданно и странно. 9 февраля (1945 года) старший сержант Соломин зашел к своему командиру с куском голубого бархата…» Одессит Илья Матвеевич Соломин за девять месяцев до этого с блатными документами и с таким же обмундированием поехал в Ростов и доставил Солженицыну в землянку законную жену. В ту пору, в той обстановке такой гешефт разве что только одессит и мог выполнить. И молодая супруга была доставлена и, по ее словам, чудесно провела в уютной землянке мужа несколько недель за переписыванием его рассказов, за чтением у камелька «Жизни Матвея Кожемякина» Горького и за другими еще более увлекательными делами. А Соломин с конца семидесятых годов живет в США.
Итак, он зашел к своему командиру с куском голубого бархата. Что же дальше? «Я сказал ему, — передает Решетов-ская слова Соломина, — что у меня ведь все равно никого нет. Давайте пошлем в Ростов Наташе, блузка выйдет…» Как видим, ни о каком окружении, ни о каком дыхании близкой смерти и речи нет. Командир и его ординарец заняты спокойным и самым обычным в те дни делом: судачат, как использовать кусок трофейного бархата. Дело-то было в Восточной Пруссии.
Соломин продолжал: «В этот момент вошли в комнату двое. Один говорит: «Солженицын Александр Исаевич? Вы нам нужны». Какая-то сила толкнула меня выйти следом. Он уже сидел в черной «эмке». Посмотрел на меня, или мне показалось, таким долгим взглядом… Его увезли. Больше я его не видел». Такова бархатная версия ареста: ни тарзань-их прыжков, ни хватания в четыре руки, ни воплей «Вы арестованы!» Все тихо, деловито, обыденно.
«Сам не знаю почему, — закончил рассказ Соломин, — побежал я к его машине. Там стоял ящик из-под немецких снарядов. Раскрыл. Книжки… Перевернул обложку на одной, смотрю — портрет Гитлера».
Вот вам и первая загадка солженицынского ареста: какой версии верить — авторской или той, что рассказали ординарец и супруга арестованного? Железной или бархатной? Уместно заметить, что такие загадки и дальше часто встречаются в биографии нашего героя. Например, с июля 1947 года до мая 1950-го он находился в спецтюрьме «Марфино» в районе Останкино. Вдруг, рассказывает с его слов Н. Решетовская, «19 мая «совершенно неожиданно» муж уехал из Марфино. Писал, что не думал, что это произойдет так скоро, что ему очень хотелось «прожить там до будущего лета». Желание вполне понятное, ибо это была весьма привилегированная тюрьма.
«Обстоятельства шаг за шагом ускоряли отъезд и сделали его неизбежным», — писал он мне», — продолжает бывшая жена. Но если так, если «шаг за шагом», то, во-первых, почему же ранее говорилось о полной неожиданности «отъезда»? Во-вторых, что это за «обстоятельства»? в чем их суть? какого они характера? Неизвестно. Тайна. А ведь именно они, выходит, оказались причиной «отъезда». Такова первая версия.
«В другом письме, написанном уже не мне, — читаем дальше у Решетовской, — он объяснил свой отъезд тем, что просто перестал работать». Это вторая версия. Человека просто выставили за безделье и саботаж. Но тогда непонятно, почему он уверял жену, будто уехал «вполне по-хо-рошему».
«Мне известна еще одна версия Солженицына по поводу того же, сообщенная им Леониду Власову, — вспоминает жена. — Он оказался жертвой спора двух начальников, которые «не поделили его между собой», и старший, наделенный властью, послал его «на такую муку»… Очень красивая версия, но она решительно противоречит второй: кому нужен бездельник? кто захочет затевать спор из-за саботажника? Кроме того, в этой тюрьме, являвшейся научно-исследовательским институтом, занимались секретными проблемами связи, а Солженицын никогда не имел к ним никакого отношения по причине полной неосведомленности в них, — чего ж из-за такого спеца спорить?
Итак, перед нами уже не две, как в случае с арестом, а три совершенно разные версии одного и того же события, и в отличие от версий ареста все они принадлежат самому Солженицыну, рассказаны им трем разным людям. Столь многогранен, сложен и духовно богат этот человек.
Какой же версии верить? Последняя из них, как уже сказано, выглядит не менее красиво, чем легенда о гении древности: «Спорили семь городов за честь быть отчизной Гомера…» Но, увы, она совершенно неубедительна, ибо наш Гомер в вопросах связи ни бэ ни мэ. Весьма легковесна и вторая версия: уж где-где, а в тюрьме-то, даже в самой привилегированной и либеральной, есть средства заставить работать обнаглевшего лодыря. Остается третья, все объясняющая какими-то таинственными «обстоятельствами», нарастающими шаг за шагом. Скорее всего тут-то собака и зарыта. Эта версия появилась первой, а первый порыв, как известно, почти всегда правдив или близок к этому. А то, что человек ни сразу, ни потом не счел возможным объяснить суть «обстоятельств» даже родной жене, говорит об их серьезности. Словом, загадка локализована, однако осталась не раскрыта.