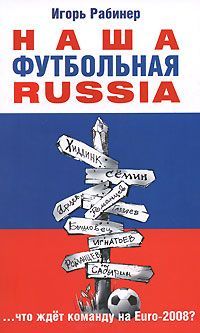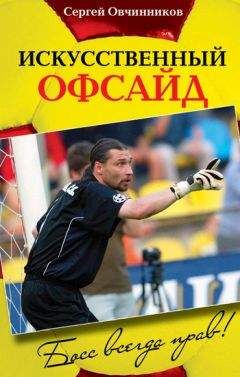Я не обладаю исчерпывающим репертуаром московских окололитературных представлений. Не могу даже внятно объяснить другу, что такое "литературный процесс". Знаю одно: литература жива, никаких "сумерек" нет, дебаты в "ЛГ" — игра, имеющая целью задеть за живое писателей и критиков, воздействовать креативно на их самолюбие. Пока в таких вот встречах, в таких дискуссиях, как на вечере, посвященном "Дню литературы", сталкиваются мнения и кипят страсти — наша, российская литература будет жить и здравствовать, и занимать подобающее ей высокое место в иерархии общественных ценностей.
Мне хотелось бы отметить в заключение: все написанное выше — моя личная позиция. Я не верю в "объективность", кому бы она ни принадлежала — писателям, общественным деятелям или, тем более, критикам. Последние мимикрируют, чтобы оценки, провозглашаемые ими со страниц газет, выглядели непредвзято, однако впечатление от книги, картины, спектакля — это мое твердое убеждение — всегда глубоко лично. Рассказывая о своих ощущениях от нашего с Валерой литературного дня, от знакомства с "Днем литературы", я старался быть искренен.
P.S. На почте служащая долго ворошила каталоги, поправляла очки, сверяла цифры. "А "День литературы" вы где нашли?" — спросила она меня. "В ЦДЛ, — улыбнулся я. — Вчера". И — указал ей индекс.
Евгений Нефёдов
20 мая 2002 0
21(444)
Date: 21-05-2002
ЕE УРОК
Середина уже неблизких шестидесятых, ранняя, ясная осень. Мне минуло двадцать лет, я весь окружен друзьями и музами, пишу лирические стихи, трепетно собираю рукопись первой книжки. В издательстве принимают для рассмотрения эту пачку листков, отпечатанных мной на разбитой отцовской "Оптиме", и оставляют юного автора в неведомом, сладостном ожидании…
...На первой странице текста, вложенного в какую-то папку вместе с моей рукописью, слегка пообтертой и густо исписанной карандашными пометками на полях, лаконично и строго значилось: "Татьяна Глушкова. Рецензия на рукопись Евгения Нефедова".
Господи, если бы мне тогда знать, что она и старше меня-то лишь лет на семь, что выросла тоже на Украине, что через четверть века мы встретимся с ней в Москве и будем друзьями, а когда на изломе столетий ее внезапно не станет, я заплачу о ней, как о доброй сестре… Но это случится когда-то потом, а пока я держал в руках практически необжалуемое решение о моей судьбе. Это был открытый, прямой и честный урок без скидок на ученичество.
...Через много-много лет Татьяна Михайловна Глушкова будет входить ко мне со стихами в редакцию "Дня" на Цветном или "Завтра" на Комсомольском — и мы не раз еще вспомним то наше давнее, удивительное заочное знакомство. К тому времени и позднее я прочту ее книги дивных стихов и глубоких статей, узнаю о ее непростой судьбе — человеческой и писательской, о ее роковой болезни и крепкой воле, о ее преданности слову и нетерпимости к фальши в поэзии, в чувствах, в жизни, стану свидетелем и арбитром ее острейшей полемики с собратьями по перу на страницах русских газет и журналов. Впрочем, и сам буду спорить с ней то о творчестве, то о политике, то о наших общих друзьях, получу от нее в подарок прекрасное стихотворение с посвящением и с эпиграфом из моих — еще тех времен!.. — не забытых ею далеких строк, а весною первого года нового века и сам напишу ей стихи, которые она уже никогда не прочтет на этой земле.
Лег до срока черемухи иней
В опустевшую строчку следов…
На твоей и моей Украине
Было время цветенья садов.
И по нашей с тобою России
Шла весна, до озноба в груди.
И воскрес накануне Спаситель,
И Победа была впереди.
Но уже из неведомой дали
Ты смотрела, строга и добра,
Тихим взором любви и печали,
Как родная навеки сестра,
Что доселе, в годину разлома,
Не молчала при кривде любой,
А вела, уповая на слово,
Свой неравный и праведный бой.
Не окончился бой и поныне,
Потому у меня на веку
Не остудит забвения иней
Ни одну твою чудо-строку…
Евгений Нефёдов
Татьяна Глушкова
20 мая 2002 0
21(444)
Date: 21-05-2002
Author: Татьяна Глушкова
ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОГО
НЕОХРИСТИАНАМ
1
В моем роду священники стоят,
как Львы Толстые бородами вея,
и подымают перст, и не велят
юродствовать и праздно лить елея.
Буравят взором. А нагрудный крест
к людским устам насильственно не тычут.
И потому — я старше этих мест,
где праведники в пекло души мечут.
И потому — покуда я иду,
мне видно: удлиняется дорога
что до порога отчего — в чаду
дворянских лип, — что до босого Бога.
Он исходил… Тебя ль, моя страна,
иль горний путь безвестного страданья,
поскольку чаша — выпита до дна
той, гефсиманской, иль рязанской ранью.
Не знаю… Не дано мне сосчитать
ни ясных звезд, ни жадных капель горя,
ни тех песчинок, что текут, как рать,
под ветром — или спят на бреге моря…
Исповедимы ль вещие пути?
Кромешна ночь духовного недуга.
Так что ж она поет в моей груди,
что горлинка, неправедная мука?
И никому не выдам, что за весть
мне шлет рассвет: оливу иль осину…
Сжимаю рот — да не исторгнет лесть.
Виски сжимаю. Разгибаю спину.
2
И вот стою, не сломлена тобой,
сонм плотоядных, хищных черноризцев,
отделена пылающей каймой
цыганских маков да кабацких ситцев.
Отчуждена от благостных затей
земных богов, рассевшихся широко.
Мой храм уходит в землю до бровей:
в бурьяне локон волжского барокко…
Нарышкинских наличников разлом
да строгановских маковок соцветья,
не трону вас ни духом, ни пером:
то вправе только нищие и дети.
Кудрявится коринфский завиток,
что листик в той Перуновой дубраве:
Влас перенял, а может, Фрол-браток, —
равно лежат во прахе да бесславье!
Равно погребены глухой травой
останки бора и останки камня,
литья — с бегучей вязью круговой,
шитья — в кругу лучины стародавней…
Не подыму я этот зримый град,
незримым градом — стану ли кичиться?
"Не хлебом…" — златоусты говорят,
пока горит российская пшеница.
Емелям этим — только бы молоть,
кимвалить на распаханном погосте.
А я смотрю: какая ж это плоть —
в мучицу, пыль измолотые кости?
Они высоким облаком плывут —
и луч сквозит над скорбною грядою;
они — как дух, что вырвался из пут
у самого безверья под рукою.
ТРЕТИЙ РИМ
В нашем Третьем Риме
(а Четвертому —
кто не знает? —
на земле не бывать!)
по воскресеньям
добрые нэпманы от демократии
кормят бесплатным обедом
нищих
ветеранов войны.
Той самой,
доисторической,
которую звали
Великой
Отечественной
войной,
поскольку было Отечество
и у живых,
и у мертвых.
Если подумать об этом —
об обеде из трех блюд,
с теплым мутным компотом
из сушеных,
уже безымянных
фруктов;
если подумать
о нищих спасителях Родины,
спешащих,
старчески волочащих
полвека тому
простреленные ноги, —
чтобы поспеть
к часу благодеянья;
если подумать о том,
что, уходя
восвояси —
есть эти норы-свояси
в катакомбах-руинах Рима? —
что, уходя,
они — Господи, слышишь ли это? —
благодарят
кормильцев, —
то уже ничего не рифмуется,
ничего не звучит
(даже пыльного марша
громовых духовых
не слыхать),
потому что смолкают музы,
когда умолкают
пушки.
***
Хворости злые следы
на помертвелом лице.
Чистой испить бы воды,
встретить зарю на крыльце.
Росной пройтись бы травой,
тонких коснуться ветвей,
где стародавней весной
пел для меня соловей.
Вижу: белеет в кустах
юное платье мое.
Яблоня в белых цветах.
Утлое наше жилье.
Целая жизнь пролегла
от луговой простоты
к мигу, где серая мгла
горько туманит черты.
Есть ли на свете любовь,