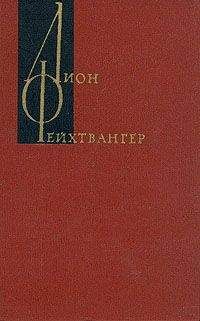И вот тут-то мы и подошли к самому важному. Очень немногие отрицают необходимость писать романы на современные темы. Очень немногие отрицают необходимость заниматься исторической наукой. Но зато очень многие никак не возьмут в толк, что писать исторические романы – тоже имеет смысл.
А ведь научность предмета, который сегодня величают историографией, весьма сомнительна. Мы нисколько не возражаем, если историк, исходя из гегелевской философии и опираясь на факты, пытается определить основные линии развития человечества, сформулировать законы этого развития, его диалектику. Но имеет ли право человек, сопоставляющий исторические факты совсем с других точек зрения, может ли он претендовать на звание ученого? Разве историк, как бы он ни располагал факты, – уже хотя бы потому, что он их располагает, – не создает субъективной картины, разве его труды в лучшем случае не являются произведениями искусства? Старый скептик Талейран подытожил свой опыт на этом поприще в следующем изречении: «Ничто нельзя так легко подтасовать, как факты». Литтон Стрэйчи[128] тоже нашел весьма удачную формулировку: «Очевидно, история – это только приведение в порядок бессмысленно нагроможденных фактов». Но, если факты приведены в порядок неискусно, то они вовсе не составляют истории, точно так же, как масло, яйца и петрушка сами по себе еще не составляют яичницу.
Однако, поскольку история есть искусство, значит, писать ее мыслимо лишь в соответствии с принципами, выдвинутыми Фридрихом Ницше. В своих «Несвоевременных мыслях[129] о пользе и вреде истории для жизни» Ницше требует, чтобы историей занимались только в интересах самой жизни. Если бы смысл истории был автономен и универсален, он бы уничтожил самую жизнь; поэтому творческая сила жизни должна держать его в повиновении. Пусть здоровая жизнь сама вылепит правдивый образ истории согласно требованиям своей современности и своего будущего.
Вероятно, эти слова вызвали бы серьезное возражение ученого, но автор исторических романов подпишется под ними обеими руками. Как и философы, он считает своей задачей изобразить органическую ясную взаимосвязь между жизнью и историей, сделать минувшее – историю – плодотворной для современности и для будущих времен.
Бенедетто Кроче[130], продолжавший возводить строение, заложенное Ницше, так сформулировал свой основной тезис: «Злободневность составляет истинный характер вечно живой истории, в отличие от голой хроники». Кроче сослали: националисты, как известно, не считают, что смысл прошлого в том, чтобы стать настоящим; как раз наоборот, они жаждут вернуть настоящее к прошлому. Теодор Лессинг так использовал выводы Ницше[131]: «История – это попытка придать смысл бессмысленному». Национал-социалисты убили его. Правда, они тоже ссылаются на Ницше, их фюрер даже сфотографировался под его бюстом, но цель их – оставить бессмысленное бессмысленным.
Историк, точно так же, как романист, видит в истории борьбу, которую ведет крошечное меньшинство, желающее и способное мыслить, – против чудовищного, накрепко спаянного между собой большинства, состоящего из слепцов, которыми руководит только голый инстинкт, – слепцов, которые вообще не способны мыслить.
Мне кажется, чрезвычайно важным изображать эпизоды, относящиеся к ранним фазам этой борьбы. Воспоминания о былых победах и поражениях, легенда, исторический роман – я считаю все это оружием, которое мы можем использовать на нынешней стадии извечной борьбы. (Впрочем, нашим противникам тоже известны все преимущества этого оружия. По примеру своих идеологов, они превращают историю человечества в грязные, кровавые сентиментальные мифы и стряпают собственный исторический роман, следуя старым, затасканным рецептам.)
Но с тех пор, как я начал писать, я пишу мои исторические романы в защиту разума, направляю их против глупости и насилия, против того явления, которое Маркс называет погружением в безысторичность. Может быть, в области литературы существует оружие, бьющее более прямо, но мне, по причинам, которые я попытался сейчас изложить, мне ближе именно это оружие – исторический роман, и я намерен пользоваться им и в дальнейшем.
Мысли в связи с кончиной Горького
Перед войной, когда я был еще совсем молод и вел жизнь бродяги, пути-дороги привели меня в Южную Италию, я оказался на Капри. От местных жителей я узнал, что там живет великий русский писатель Максим Горький. В Германии я несколько раз видел «На дне» в постановке Рейнхардта. Благодаря Горькому мне впервые открылась душа русского человека, принадлежащего не к тем нескольким тысячам, что живут на виду, а к тем миллионам, что живут «на дне», людям, совершенно мне дотоле неведомым, представляющим новый для меня мир. И вот я стоял перед домом человека, создавшего образы этих людей, сгорая от желания посмотреть на писателя, встретить его взгляд, узревший их, услышать его голос, давший им право голоса. Так я и стоял, задыхаясь от волнения, и слышал чей-то голос, вероятно, его голос, стук пишущей машинки, вероятно, его машинки, но так и не собрался с духом, повернулся и ушел. Позже я поставил в мюнхенском Народном театре «На дне». Это было первой попыткой Народного театра, игравшего обычно лишь водевили, оперетты и фарсы, познакомить своего массового зрителя с настоящим искусством. И требовалось немало мужества, чтобы решиться показать баварской публике этих русских людей, – театральный мир был настроен более чем скептически. Я старался сделать все, что мог. Прочел все произведения Горького, которые в то время были переведены. Спектакль удался; оказалось, что простые баварцы, составлявшие публику того театра, прекрасно понимали этих русских людей, они хорошо слушали и пристально вглядывались в них. Народ, даже такой непохожий на русских, как жители Баварии, без труда понимал писателя народа русского. Пьеса много лет подряд не сходила со сцены.
В этом году мои русские друзья несколько раз передавали мне слова привета от Горького. Все они говорили, что великий писатель будет рад увидеться со мной. Это известие укрепило мое решение поехать в Россию. Я был так счастлив, что теперь мне удастся осуществить то, на что двадцать три года назад не хватило решимости.
Смерть Горького – тяжелый удар для меня. Она будет ударом для всех, кто питает симпатии к новой России. Устами этого писателя Россия заявляла нам о себе куда яснее, понятнее и выразительнее, чем устами самого красноречивого оратора. Когда читаешь книги Горького, все, что нас разделяет, рушится, расстояния исчезают, чувствуешь себя в гуще этих русских людей. Забываешь, что все это написал один человек, со своим субъективным взглядом на вещи, кажется, что сам народ вдруг обрел голос и заговорил. Не случайно, что у Горького почти нет героев, созданных ради них самих, что его персонажи обретают подлинную значимость лишь благодаря их Отнесенности к какому-то множеству, благодаря их народности. Если называют имя любого другого великого писателя, в памяти сразу возникает целая галерея отдельных созданных им образов. А когда думаешь о Горьком, возникает сразу вся Россия, не отдельные люди, а огромные массы русских людей, и хотя у каждого из них свой облик, всех их объединяет одно общее лицо, лицо народа. Я не знаю второго такого писателя, который бы так, как Горький, умел изображать народ, народные массы, не впадая в абстракцию. Другим приходится прибегать к всевозможным более или менее риторическим средствам, заставлять своих персонажей говорить хором, стилизовать их под типичное, выпячивать типичное. У Горького ничего подобного нет и в помине. Каждый из его героев говорит своим голосом, и все же эти голоса сливаются друг с другом в единую гармоническую симфонию и обретают свое окончательное, подлинное звучание только благодаря голосам других.
Кто привык художественные произведения разбирать на составные части, кто старается раскрыть механизм их воздействия, тому книги Горького зададут нелегкую задачу. Ибо в них нет ни схемы, ни преднамеренности. Автор не использует особых художественных приемов, не гонится за эффектом. Наоборот, не надо быть большим знатоком, чтобы увидеть, что у него не было ни подробного плана, ни тщательно продуманной схемы развития действия. И тем не менее все живет, все движется, и художественное воздействие неоспоримо. Вот Горький начинает говорить, и тотчас перед глазами – необычайно вещественно! – встает русский народ, он сам рассказывает о себе; у рассказа нет ни настоящего начала, ни настоящего конца, но он не становится расплывчатым и не утрачивает главного.
Именно благодаря равнодушию к эффектам, благодаря естественной, не нарочитой художественной полноте и щедрости произведения Горького завоевывают симпатию к новой России успешнее, чем любая самая умелая пропаганда, лишенная средств эмоционального воздействия и взывающая лишь к голосу разума.