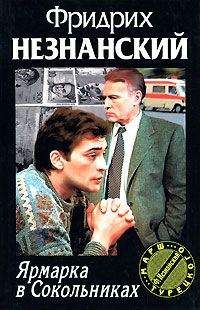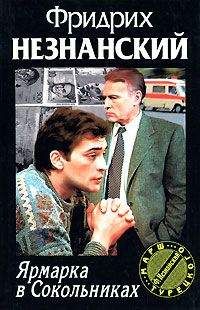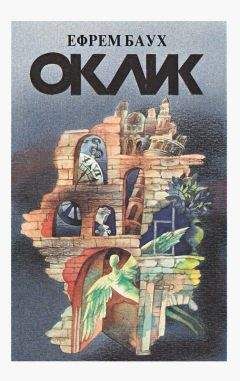Двадцатый век – Серебряный – увлекся поэтом-дервишем, поэтом пророчествующим, блаженным и бесноватым одновременно. Сохранить личину несерьезного отношения к поэзии при взятой на себя провидческой сверхзадаче, понятное дело, не удалось. А раз поэт не повеса, не губернатор, не помещик – словом, не дилетант, а жрец, – он просто обязан быть в центре общественного внимания. Он вещает – общество внимает. Завышенная самооценка, рост общественного внимания привели исподволь к закабалению поэта, чему поэт и не противился: сознание собственной значимости лестно. (Революция себе во благо попользуется новой влиятельностью поэта, взяв его в оборот.) Парадоксальным образом поэт-любитель был независим, а поэт-вещун попал в зависимость и привык к ней. Поэтому отлучение от общества воспринималось как трагедия и ущерб. И реагировали поэты на кару отлучения в меру своего темперамента по-разному, но всегда болезненно. Цветаева – то с надрывом (“поэты-жиды”), то с агрессией, как в “Поэме горы”, где она обрушивается с проклятьями на ни в чем не повинных дачников. Пастернак винится, оправдывается: разве “я – урод”, “разве я не мерюсь пятилеткой?”; впадает в ересь простоты и пишет “Доктора Живаго”; с профессорской близорукой восторженностью отнимает у метростроевской тетки отбойный молоток; с экзальтированным обожаньем отверженного косится на попутчиков в электричке – баб, слесарей, пэтэушников. Мандельштам свое справедливое уныние осуждает как ропот малодушия, предательство славных идеалов: “Не хныкать – / для того ли разночинцы / Рассохлые топтали сапоги?..” Но и в злости своей, и в искательности, и в унынии поэты чувствуют – отверженность. Им хочется “задрав штаны, бежать за комсомолом”, а их не берут, а если берут, то на одном условии: строить срубы, чтобы опускать туда “князей на бадье”, искать топорище “для казни”.
(Я думаю, кстати, что стихотворение “Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма…” – не что иное, как надрывная, обращенная к власти мольба о привлечении к сотрудничеству. На примере этого стихотворения особенно видна чужеродность Мандельштама советской поэзии. Когда советский поэт искал расположения властей, он, казалось, говорил: вы правы и дело ваше правое – возьмите в компанию. У Мандельштама совершенно другой пафос: я доведен до крайности и готов быть с вами заодно, душегубы. В одном случае – расчетливая ложь или самообман, в другом – надрыв изгоя. Знакомый рассказывал, что в Гамбурге на Reeperbahn видел на стене среди отпечатанных в типографии блядских визитных карточек тетрадный лист, на котором от руки печатными буквами было написано по-польски: “Согласна на все за билет до Варшавы”. Вот и Мандельштам “согласен на все”.)
Бродский считал, что он преемник Серебряного века. Насколько это верно для его стихов, я судить не берусь, но вел он себя в культуре прямо противоположным образом. Он запретил себе даже думать о “читателе, советчике, враче”. Ему было дорого его принципиальное и абсолютное отщепенство. Собственная отверженность воспринималась им не как трагедия, а как трагическая норма бытия. Он сказал: “Одиночество есть человек в квадрате”, – и оставил за каждым из нас – и поэтов и непоэтов – право на исключительность такого рода. Он вернул образу русского поэта утраченную им в начале века независимость. И теперь каждому, кто затоскует, желая быть понятым родной страной, можно кивнуть на Бродского: вот, не затосковал же…
1996
Принципиальный индивидуалист Иосиф Бродский, сравнивший свою судьбу с участью одинокого ястреба, умер и вскоре стал кумиром широкой публики. Есть во всякой массовой экзальтации что-то ненастоящее. Кроме того, трезвеющая публика имеет обыкновение рано или поздно бросаться в другую крайность, и здесь неизбежна несправедливость, сопутствующая всякому ухудшению отношений. Всеобщая и обязательная любовь интеллигенции к Хемингуэю с последующим мстительным разочарованием – тому подтверждение. Будет очень жаль, если настанет время, когда читательское похмелье и фамильярность газетчиков не пощадят поэтических и человеческих заслуг Иосифа Бродского. Мне известно только одно средство избежать этой неприятности: не славословить за компанию, разобраться в собственных чувствах.
Последние двести приблизительно лет поэты напрямую вторгаются в свои произведения на правах главного героя. Творчество уподобляется автопортрету. Романтизм и предполагает такое вмешательство художника в собственное изделие. В читательском восприятии лирический герой и автор – одно. Отход от этого единства требует особых авторских оговорок:
Как будто нам уж невозможно
Писать поэмы о другом,
Как только о себе самом.
Жесткое требование жить “как пишешь” и писать “как живешь” налагает на автора обязательство соблюдать подвижное равновесие между собой-прототипом и собственным запечатленным образом. “Отсюда следует, что прием переносится в жизнь, что развивается не мастерство, а душа, что, в конце концов, это одно и то же” (И. Бродский). Автор старается вести себя так, чтобы не бросать тень на лирического героя, а тот, в свою очередь, оставляет автору хотя бы теоретическую возможность отождествиться с вымыслом. В этих драматических взаимоотношениях сочинителя и сочинения – особая прелесть романтической поэзии: кто кого?
Искусство поведения становится самостоятельной артистической дисциплиной. Публика оценивает романтического поэта по своеобразному двоеборью: жизнь плюс поэзия; и современники, случается, отдают предпочтение жизни, а потомки, утрачивая биографическое измерение, – поэзии.
Иосиф Бродский являет собой совершенный – под стать Байрону – образец романтической соразмерности автора лирическому герою. Свидетели юности Бродского вспоминают, что уже тогда его присутствие наэлектризовывало атмосферу товарищеского круга. Не оставляет впечатление, что для многих из них знакомство с Бродским стало едва ли не главным событием жизни; так, вероятно, ведут себя очевидцы чуда.
Мужественной верой в свою звезду можно объяснить нерасчетливые до отваги поступки молодого Бродского (брошенную в одночасье школу, работу в экспедициях, знаменитую отсылку к Божьему промыслу в советском нарсуде). Поэтам последующих поколений подобная самостоятельность давалась меньшей ценой: уже был уклад асоциального поведения, традиция отщепенства. Порывавший с одним обществом вскоре примыкал к другому, немногочисленному, но сплоченному. В 50-е годы, насколько мне известно, поведение Бродского было новостью и требовало большой решительности.
Чувство поэтической правоты, ощущение избранности, воля к величию скорее всего укрепились после знакомства с Анной Ахматовой.
Случайно уцелевшая в терроре, Ахматова воспринималась ближайшим окружением как хранительница очага классической культуры. Порывистый, наделенный “каким-то вечным детством” Пастернак не подходил для этой почетной и торжественной обязанности. Другое дело – царственная Ахматова. За Ахматовой записывали, ей внимали и в большом (“В наше время нужны лишь пепельница и плевательница”), и в малом: как правильно, без тенорской ужимки, дать автограф. Ахматова предстала, помимо всего прочего, жрицей культурного ритуала. Недавно в печати отмечался удивительный факт: книги об Ахматовой пользуются большим спросом, чем книги самой Ахматовой – Ахматова легендарна. Известно, что и Бродский в первую очередь ценил Ахматову-личность.
Ахматову отличала скульптурная стать и скульптурные бытовые реакции. “Какую биографию делают нашему рыжему!” – это не отклик старой женщины на несчастье, стрясшееся с молодым человеком, а отзыв опытного олимпийца на событие в жизни олимпийца начинающего.
Так или иначе, Бродский, по его словам, смолоду получил “прививку “классической розы”, которой <…> сознательно подвергал себя на протяжении большей части <…> жизни”. Кажется, эта триумфальная жизнь насмеялась над людскими представлениями о возможном и невозможном. Недюжинный талант, “величие замысла”, решимость “взять на полтона выше” позволили Бродскому чуть ли не вертикальный взлет из неоконченного восьмого класса в классики. Такая убедительная жизненная победа впечатляет. Но установка на шедевр, на классичность, “знание ответа” вызывает сомнения в творческой, и только творческой, природе этих устремлений.
Бог (Бог!), возводя мироздание, не знал ответа, не был уверен в результате, счел свои деяния удавшимися только задним числом, о чем и написано в Библии: Господь сперва создает свет, а после видит, “что он хорош”. Сперва творит землю, моря, растения, животных, и лишь потом убеждается, “что это хорошо”. В таком не вяжущемся с представлениями о Божьем всесилии запаздывании оценок слышится прямо-таки художнический вздох облегчения. Спустя много тысячелетий Пушкин ровно в той же божественной последовательности, правда на свой лад, откликнулся на собственное творение – “Бориса Годунова”: перечел написанное и бил в ладони, приговаривая: “Ай да Пушкин, ай да сукин сын!” – увидел, “что это хорошо”. Ни о каком “взять на полтона выше” речи не было. Творчество, и только творчество, слишком поглощено самим собой, чтобы еще иметь в виду побивание чьих-то рекордов или соответствование высоким образцам.