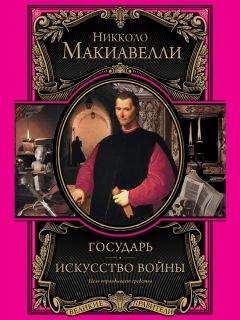Так же как и в клипах на классическую музыку, в ситуации филармонического концерта востребована идея путешествия в прошлое. Но если в клипах зрителю предъявляются уже готовые и обработанные визуальные образы, которые он воспринимает опосредованно, то на концерте он получает возможность самолично оказаться внутри разворачивающегося действа, почувствовать себя его незаменимым участником. Приходя на классический концерт, публика попадает в интерактивный театр, где она, соблюдая церемониал, становится полноправным героем «путешествия во времени». Посетитель концерта может попробовать ощутить себя человеком, живущим где-то до ХХ в., до коротких юбок, джинсов и поведенческого плюрализма. Поэтому невольно или сознательно он начинает вести себя так, как, по его представлениям, было принято «когда-то тогда».
Однако сопоставление прошлого и настоящего показывает, что чем консервативнее традиции поведения, тем более они молоды. Один из ярчайших примеров — это ритуал аплодисментов. В своей книге Е. В. Дуков приводит убедительные примеры из XIX в., когда публичные концерты проходили в своеобразной «шумовой завесе», а аплодисменты были необходимы как для навигации новообращенных слушателей, так и для собирания всеобщего внимания, рассыпающегося из-за все увеличивающейся длины произведений[144]. Сегодня, согласно общепринятому и строго выдерживаемому правилу, классическая музыка должна звучать в тишине, а для выражения слушательской реакции отведен временной промежуток исключительно после окончания всего произведения. То есть непосредственный отклик на музыку намеренно откладывается, так как считается, что овации после окончания части многочастного произведения разрушают авторскую концепцию. Тем самым из возможности выражения вызванных музыкой эмоций аплодисменты превращаются в ритуальный знак, прежде всего очерчивающий статус происходящего события для самих его участников.
Особую функцию в воссоздании духа прошлого играют интерьеры концертных залов. «Концертный зал, даже безлюдный и молчаливый, говорит сам за себя. Он внушает идею упорядоченного устройства музыкального мира, изобилующего замечательными творениями, которые звучали и будут звучать в его стенах сезон за сезоном, гарантируя любителям музыки новые и старые радости. Концертный зал — это внушительный символ непобедимой инерции прошлого…»[145] Это глубокое по смыслу высказывание Генриха Орлова действительно в отношении как исторических, так и современных залов, в интерьеры которых вкрапляются символы из прошлых столетий[146].
Музыканту при погружении в прошлое также отведена своя роль, важными атрибутами которой становятся сценический костюм и стиль поведения. Зачастую визуальный ряд филармонического концерта выдержан в черно-белых тонах костюмов и вечерних платьев, черно-белое облачение является своего рода дресс-кодом классической музыки. Весьма редко музыкант-мужчина может позволить себе появиться перед публикой без фрака (смокинга) и галстука[147]. Мужской костюм в данном случае несет двойной семантический подтекст. Во-первых, он является сценическим нарядом, отсылающим к прошлому, в том числе к аристократичности, так как тот же фрак имеет историческую славу «прозодежды правящего класса»[148]. Во-вторых, моделируется ситуация деловых взаимоотношений, где строгая форма одежды настраивает участников скорее на серьезный, нежели развлекательный, характер времяпрепровождения.
Таким образом, антураж и ритуал филармонического концерта начинают выполнять функцию визуализации, материально-пространственной фиксации того серьезного, вдумчивого настроя, который требуется от слушателя классических произведений. Известно, что восприятие классической музыки связано не только с эмоциональными, но и интеллектуальными затратами, здесь необходимо напрягать внутренние силы, уметь концентрироваться и рефлексировать, то есть «пропускать» слышимое через голову. Одним словом, адекватное восприятие классической музыки подразумевает духовную мобилизацию. Для получения удовольствия от звучания, скажем, симфонии Малера определенные усилия должны прилагать не только музыканты, но и слушатели. В свою очередь это требование духовных вложений противоречит главной тенденции современной индустрии развлечений. Последняя рассчитана на расслабление, на легкоусвояемое наслаждение и отсутствие каких-либо обязательств со стороны ее потребителя.
Но если человек решает провести вечер в филармонии, то тем самым он соглашается прилагать усилия, необходимые для постижения классической музыки. Потому так важен сам ритуал, потому он с таким рвением исполняется (особенно новообращенными посетителями симфонических концертов), что он становится зримым воплощением и подтверждением нахождения в другой позиции по отношению к общедоступной массовой культуре. Ритуал помогает публике почувствовать, наглядно ощутить комплекс значений, вкладываемых в понятие «высокое искусство», и осознать свою причастность к нему. Причем если у глубокого авторского кино или театра, как правило, нет таких внешних поведенческих атрибутов, которые отделяли бы их от развлекательных аналогов, то у классической музыки эти атрибуты, наоборот, оказываются ярко выраженными. И сосредоточены они как раз в создаваемой иллюзии погружения в прошлое.
Более того, классическая музыка позволяет не только сопоставлять категории прошлого и настоящего, но своим существованием образует уникальную категорию вечного. Эта музыка является примером «перевода» земного творения, встроенного в поток необратимого времени, в координаты вечности, над которой время уже не властно. По сути, музыка становится классической ровно тогда, когда она «отрывается» от своей эпохи, оставшейся в прошлом, и получает право быть воспринимаемой, вызывающей отклик в людях последующих эпох. Этот свершившийся переход музыки из современной в классическую как раз и закрепляет за ней более высокий статус. Музыке удается преодолеть свою смертность, которая неизбежна в отношении человека и его вещей, и она приобретает качество бессмертной, неустаревающей.
Концерт очень схож с театральным представлением в том смысле, что подразумевает непременную симультанность пребывания в едином пространстве и времени исполнителей и воспринимающей аудитории. И когда исполнитель погружается в поток музыкального произведения, то в эту же эстетическую реальность, при условии достаточной концентрации, попадают и зрители-слушатели. Тем самым они становится очевидцами, слушателями-свидетелями жизни вечной музыки. Характерной особенностью такого восприятия музыки является утрата объективного чувства времени, ведущая к эффекту неограниченно расширяющегося и длящегося мгновения[149]. То есть в какой-то момент слушатели оказываются в уникальном измерении вечности, безвременности, как бы «выпадают» из поступательного движения времени.
Особая роль в происходящем расширении временных границ принадлежит поведению академических музыкантов на сцене. Его специфика заключается в том, что «большинство солистов, исключая вокал, <…> принимают позу, минимизирующую визуальный контакт с залом»[150]. Кроме того, какая бы эмоционально насыщенная музыка ни исполнялась, музыкант, «прикованный» к своему инструменту, может передавать аффекты только через весьма лимитированный круг условных жестов. Но в данном случае внешний аскетизм исполнителя — это не столько дань церемониалу, сколько последствия особого типа коммуникации.
На наш взгляд, на филармоническом концерте наряду с перпендикулярным вектором коммуникации между артистом и зрительным залом[151] существует еще одно направление, разворачивающееся параллельно плоскости сцены, — это диалог исполнителя со своим музыкальным инструментом. Именно к инструменту обращен исполнитель, именно на него направлено внимание и усилия музыканта; в инструменте непосредственно рождаются звуки, а от успешности взаимодействия музыканта с инструментом в конечном итоге зависит и успех самого исполнения. В этой связи не случайно в профессиональном музыкантском языке есть выражения «овладеть игрой на инструменте», «приспособиться к инструменту» или пример из рецензий — «пианист боролся с роялем». То есть инструмент воспринимается как вполне независимый и равноправный участник в творении музыки.
Публика на концерте по большому счету наблюдает и слушает диалог, который свершается между исполнителем и его инструментом. Поэтому главным объектом внимания музыканта является отнюдь не публика, а его инструмент и исполняемое произведение. Не случайно большинство стратегий исполнительского поведения говорят о необходимости абстрагирования от публики, и высший момент подлинного творчества наступает тогда, когда исполнитель при полном зале ощущает себя наедине с музыкой, со своим инструментом.