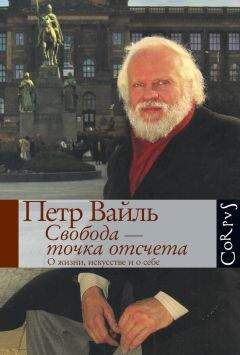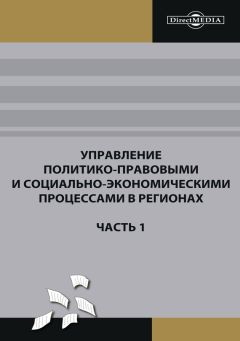Любую эмиграцию объединяют или политические убеждения, или национальное происхождение. У нас и то, и другое было неясным. В политике — только тотальное отрицание прошлого, с национальным вопросом — путаница.
В венско-римcкий период нас именовали jews и постепенно к этому привыкли даже те, кто вспомнил о еврейском дедушке исключительно в угоду ОВИРу. Не зря римское отделение ХИАСа отказалось обслуживать довольно многих за откровенно антисемитские реплики по поводу «жидов-бюрократов». (Бедняги бросились в Толстовский фонд, где опять-таки приходилось доказывать чистоту расы).
По приезде в Америку мы с удивлением выяснили, что jews мы в лучшем случае в синагоге, куда пришли с просьбой о матрасах. (Кстати, пусть это не смущает непосвященных: за предметами роскоши и необходимости принято обращаться куда угодно. Однажды два молодца с внешностью террористов приехали за подушками в Русский институт Колумбийского университета, чем довели до обморока тонкого, интеллигентного профессора Белнапа, переводчика Достоевского). Так вот, оказалось, что для американцев мы — russians, поскольку из России.
Отсутствие национальной самоидентификации, как любая анархия сознания, ведет к полному идеологическому разброду. В нашей эмиграции до изумления легко за одно и то же высказывание оказаться одновременно антисемитом и русофобом — именно потому, что никто, за исключением религиозного меньшинства, толком не разобрался: кто же он, наконец. Редкий, достойный занесения в Красную книгу, гибрид — русский еврей — воплотил в себе все лучшее и все худшее из сути двух великих наций. Мы сочетаем предприимчивость и имперский дух, любовь к книгам и тягу к пьянству, корыстолюбие и разгильдяйство, склонность к компромиссу и нетерпимость, гордыню и самоуничижение, самоуничижение и гордыню, мелочность и широту, скромность и хамство, привычку танцевать фрейлахс и привычку петь "Очи черные".
На почве, унавоженной столь богато, вырастают диковинные цветы нашей потрясающей ментальности, отягощенной, еще и американскими наслоениями. Мы смертельно оскорбляемся за еврейство, мы отстаиваем русский народ, мы не даем в обиду Америку. Наверное, надо снова вспомнить, что эмиграция — не статическое явление, а процесс, и вся эта мешанина мнений, убеждений, заблуждений как-то уляжется, утрясется. Но процесс, как любой рост, проходит болезненно и трудно.
Эмиграция — всегда эксперимент, причем с человеческими жертвами. А в нашем случае опыт осложнен еще тем обстоятельством, что такой, сам по себе взрывчато-опасный состав — русский еврей — попал в Америку. Окажись мы в какой-нибудь Голландии, бюргерская рассудительность, может, привела бы нас в чувство. А Америка несет в себе идею тотальной свободы, которая оказалась насыщенной питательной средой для натуры нашего эмигранта.
Годы жизни при тоталитарном режиме взрастили в нас два, казалось бы, взаимоисключающих комплекса: ненависть к коллективистскому сознанию и неприятие чужого индивидуального сознания. С точки зрения диалектики это вполне объяснимо — согласно закону о единстве противоположностей. Но никакое знание теории не убережет от кошмара в реальной жизни. На примитивном уровне это формулируется приблизительно так: "В Америке слишком много свободы. Свободы достойны не все. Я — достоин. Зяма и Шура — тоже. Остальные — нет".
В неискушенном мозгу эмигранта произошло смещение понятий. Но ведь если можно ходить в шубе и босиком, то это не значит, что можно ограбить компаньона или оклеветать конкурента. Истина простая, но страшно далека она от народа. Отсутствие ханжества не означет торжества аморальности. Подобные сентенции выглядят жалкой банальностью — но только на бумаге. Америке пришлось пройти долгий и временами весьма мрачный путь, чтобы впитать подобные истины. А у нас за плечами — ничего, кроме "В своих дерзаниях всегда мы правы!"
Увы, в эмиграции, словно шелуха, слетела память о российском социальном быте, годами регулировавшем наше поведение. Специфическая интеллигентская традиция — та самая, (с бородкой и в пенсне — господствовала в нашем тамошнем обществе: конечно же, не в качестве модели ежедневного поведения, но хотя бы как некая абстрактная норма. Идея греха состоит ведь не в том, что надо жить праведно. Это — недостижимый идеал. Но человек должен всегда знать, что есть грех. Глупо было бы утверждать, что там мы были местными, справедливыми, благородными… Но сама ситуация, весь общественный этикет — был построен так, что вы всегда и безошибочно знали, в какой момент поступили нечестно, несправедливо, неблагородно.
Дело тут не только в российском интеллигентском наследии, но и в обстановке общего противостояния режиму, который объединял людей, независимо от черт их характера. В такой ситуации общество в борьбе с государством естественным образом выработало единственное оружие — общественное мнение. Конечно, у Наровчатова была куча денег, машина, дача и заграничные поездки. Но невозможно себе представить приличного человека, гордящегося знакомством с Наровчатовым. Все достояние Венедикта Ерофеева составляла несданная посуда — и то до открытия магазинов. Но люди, выпившие с ним хотя бы бутылку «Кубанской», становились знаменитостями. Офицеры КГБ — блестяще образованные, состоятельные — находили себе жен только среди несчастных филологичек, не желающих учительствовать в провинции. Профессор и доносчик Эльсберг до конца жизни имел и власть, и силу и умер в спокойствии и почете. Но все — даже те, кто дружелюбно протягивал ему руку — знали, что он мерзавец. И главное — он знал, что все это знают.
В эмиграции произошла страшная вещь. Освободившись от нелепых и унизительных идеологических ограничений, мы последовательно освободились и от норм общественного этикета. И тем начисто уничтожили свое единственное подлинное духовное достояние — общественное мнение. Его в эмиграции — нет.
В России непечатаемый писатель был героем и страдальцем. Здесь он — всего-навсего непечатаемый писатель. Там всегда существовало два плана — официальный и подпольный. Почести воздавались и на сцене, и за кулисами, и конечно, закулисные были ценнее. Здесь же второй план исчез за ненадобностью нет цензуры, нет контроля, свобода. И оказалось, что первый план мало чем отличается оттого — советского, официального. Это нормально: если негодяй выступает со страниц тоталитарного органа, с ним все ясно, но если со страниц свободной прессы. — то уже не вполне понятно, что он негодяй. А он странным образом может оскорбить достойного человека и остаться безнаказанным, потому что перед лицом тотальной. Свободы и отсутствия общего врага эмиграция — разрозненная хаотическая масса. Утрачены нравственные ориентиры, потому что умы, охотно и радостно отказались от прежних, навязанных, критериев, а новых не приобрели…
Подобные метаморфозы произошли не только в сфере идеологии. Ужасающим образом трактуется идея свободной конкуренции. Например, нормальным считается объявить соперника агентом КГБ, субсидируемым из Москвы. И тот философски пожимает плечами: "Это ж жизнь!" и пишет на обидчика донос в налоговое управление. "Младенцы в джунглях" — так назвал один свой рассказ О. Генри. Мы принесли свое младенческое сознание, свою трогательную социальную недоразвитость в джунгли свободы и срочным порядком наращиваем извилины. Дело это, по всему видно, нескорое и непростое.
Но если улягутся страсти и гнусности, и львы возлягут с агнцами, может быть, эмиграция приступит к выполнению своей исторической задачи: быть культурной колонией России в свободном мире. Кажется такой достижимой мечтой идея архива, где все ценности российской культуры будут бережно храниться на благо культуры мировой. Может быть, идеал и недоступен, и даже неверен (по крайней мере сомнителен)., может быть, главная идея эмиграции — чистое самовыражение, без всякой исторической нагрузки. Просто инженер А, писатель Б, бизнесмен В искали и нашли наиболее благоприятную сферу приложения своих сил.
Но идеалы хороши ведь не возможностью их воплощения, а тем, что организуют и направляют созание человека. Создают некий вектор, благодаря которому, возможно, успешно завершится наше социально-нравственное образование. Такая вера в свое назначение полезна прежде всего для нас самих. А культура — она существует сама по себе, ни для кого. Не для России, не для Америки и даже не для нас. Как было сказано — рукописи не горят.
Мы пришли в окончательную географическую и телеологическую точку: отсюда начинается отсчет назад. Мы приобрели свободу, и первое, на что мы ее употребили, был подсчет потерь. Свобода и память близки друг другу. Одна пробуждает другую. Мы стали вспоминать и наши воспоминания обратились в перечень уплаченных иллюзий, в поток ламентаций, в конце концов, в кляузу неизвестно кому на отсутствие предметов первой необходимости.