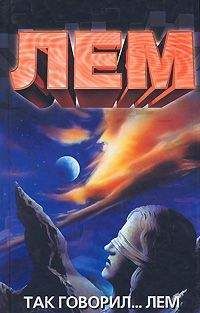Мой писательский метод можно сравнить с пластической техникой, которая именуется техникой «гадящей мухи». Она заключается в том, что с помощью маленьких глиняных шариков создается форма для отливки или скульптура. Очень трудно сказать, когда этих шариков уже достаточно много.
— Эти трудности имеют скорее конструкционный характер или артикуляционно-языковой?
— Поставить голос, найти подходящий язык, соответствующую стилевую модальность для конкретного произведения, существующего пока лишь в туманном контуре, — эти вопросы также требуют необычайно трудных поисков. Это очень трудно. Колебания между первым и третьим лицом, поиск подходящего скрипичного ключа — это требует усилий.
Я всегда был чувствителен к вопросам языка. Большой осторожностью в подходе к претенциозным стилям я обязан авторам работ в точных науках. Кроме «Кибериады», в которой барокко было заложено изначально, я никогда не писал таким стилем. Никогда не отваживался на стилистическую разнузданность. Если вы возьмете в руки «На серебряной планете» Жулавского — книгу, которую я люблю и которой многим обязан, — то легко найдете высокопарные выкрики: «О Земля! Земля утраченная!» Я постыдился бы так писать. «О атом! Атом мой любимый!» Для меня это невозможно. Языковая сдержанность — я в этом уверен — всегда идет на пользу. Если взять два типа произведений: претенциозные и протокольные, то всегда больше шансов продержаться у протокольных текстов.
Я всегда удивлялся, почему этого не могут понять молодые писатели. Ведь невозможно читать книги таких расхваленных личностей, как, например, Лозиньский, который пишет по шесть книг в год. Это написано на таком эмоциональном надрыве, словно самый прекрасный романный букет создал тот, кто распустил самый прекрасный «павлиний хвост».
— На издевательство над коллегами по перу я предусмотрел отдельную часть наших бесед, поэтому лучше сохранить соответствующую порцию яда до того момента. Не знаю, слышали ли вы о себе анекдот, который утверждает, что как-то в кулуарах во время какой-то научной сессии вас спросили о пропорциях между фантастическими вымыслами, построенными на околонаучных знаниях, и настоящими научными построениями. Якобы прозвучал такой ответ: «А кто меня может проверить?» Меньше всего меня интересует, насколько правдива эта история. Важнее, мне кажется, беспокойство по поводу достоверности высказанных вами утверждений.
— В принципе я всегда старался действовать так, чтобы каждое из моих фантастическо-гипотетических утверждений имело научно засвидетельствованное обоснование, чтобы существовала инстанция, к которой можно обратиться. Все эти апелляционные суды и трибуналы действительно существуют на самом деле, хотя и неявно выражены. Мне ведь никогда не приходило в голову искать потенциальное подтверждение и оправдание, например, в ангелологии. Хотя нам и известна богатая иконография ангелов, но я никогда не утверждал на этом основании, что у человека вырастут крылья и он будет порхать. В беллетристике я сайентист. Стараюсь им быть, во всяком случае. Я также не верю в повсеместно распространенные мнения об НЛО или о палеоастронавтах, популярной теме, созданной при решающем участии фон Деникена. Вот это — именно глумление над разумом, снижение коэффициента полезного действия человеческого ума и глупые бредни. Это образ человека, который сам ничего мудрого сделать не может, поэтому должен прийти кто-то из космоса и научить его строить пирамиды или лепить горшки. Я всегда стоял на рациональном основании и старался выражать — как умел — лишь свои настоящие убеждения.
— Однако, пребывая на территории, где фактические достижения науки преломляются в трудные для верификации прогностические представления, которые вдобавок стараются быть литературой, легко возбудить подозрение в невероятности провозглашенных прогнозов. Вы никогда не думали о том, чтобы найти способ — хотя бы в дискурсивных текстах — обозначить демаркационную линию между фактическим состоянием науки и собственными предположениями?
— Нет, не думал. И не потому, что я такой вероломный по натуре, а потому, что это очень трудно сделать. Прошу принять во внимание, что если придерживаться этой директивы, то написать такую книгу, как «Сумма технологии», вообще невозможно. А если придерживаться этого еще строже, как Корнелиус с его ананкастическим синдромом, то, будучи выдающимся физиком, невозможно написать научно-популярную книгу о «черных дырах».
— А это еще почему?
— Потому что взгляды всех ученых на эту тему вообще не совпадают. Есть некоторый стержень, где мнения объединяются, но за его пределами появляются различные интерпретации, так что следовало бы писать, что Хоукинг считает так, Пенроуз — этак, а Скьяма — совсем иначе. А поскольку таких ученых — сорок человек, то следовало бы написать огромную хрестоматию. А если перейти из области физики, которая сегодня является — вслед за математикой — королевой наук, в область биологии, то получим образ сущего несчастья. Если же войдем в медицинские теории, то вообще вторгнемся в кошмар, потому что этиология некоторых заболеваний в терапии по мнению профессора А будет выглядеть совершенно иначе, нежели по мнению профессора Б. Таковы лишь предварительные трудности, которые не позволяют провести упомянутую вами демаркационную линию.
Я приведу вам пример и других трудностей. Ведутся весьма бурные споры о том, возможно ли взаимодействие между частицами со скоростью, превышающей скорость света, или нет. Концепция, допускающая такую возможность, вытекает из некоторой интерпретации квантовой механики, не слишком ортодоксальной, но и не сумасшедшей. Если рождаются частица и античастица, которые летят в противоположные стороны, или если есть электрон и позитрон и с электроном «что-нибудь сделать», то позитрон «получит известие» об этом. Неизвестно как. То есть допустима интерпретация, что это проявление некоторых механизмов, до которых мы еще не добрались. Быть может, именно в этой области вспыхнет какая-нибудь очередная великая революция в физике. Ибо трудно поверить, что мы уже пережили последнюю. Я никогда не стоял на том, что в науке мы находимся на твердом грунте и все знаем наверняка. Исходя из этого, продвигаясь в будущее, мы постепенно утрачиваем опору. Ситуация напоминает хождение по замерзшему озеру, когда наиболее толстый слой льда расположен у берегов. Невозможно заранее определить место, где лед начнет под нами проламываться, потому что это зависит от множества факторов, которые невозможно измерить. Поэтому наиболее благоразумно было бы вообще не ходить к центру озера, то есть ничего не говорить о будущем. Но если мы хотим это делать, то обречены на риск отсутствия критериев.
Вы будете смеяться, но я действительно когда-то думал, а не ставить ли на полях своих текстов какие-нибудь условные знаки: знак малого риска заявления, знак большего риска заявления и т. д. Что-то похожее на квантификаторы, обозначающие полную или частичную убежденность. В традиционной, двухвалентной логике существуют или истинные, или ложные высказывания. Невозможна ситуация, когда я утверждаю, что идет дождь, но верю в это на шестьдесят процентов. Это лишь усложнило бы процесс, да и как это сделать? Печатать на полях нонпарелью? Это не имеет смысла, поскольку я сам не знаю, какова достоверность некоторых особенно дерзких предположений. Впрочем, читатели тоже не знали бы, как относиться к таким знакам. Поэтому я вовсе отказался от таких приемов, мысли о которых иногда приходили мне в голову.
— Вы меня убедили, но иногда я задумываюсь, не будет ли в таком марьяже науки с литературой страдать именно литература?
— Я не знаю. Однако когда-то я подумал: как это, моим коллегам «по профессии» можно делать все, а мне нельзя? Кому-то можно топором рушить синтаксис, любым способом измываться над языком, отказываться от фабулы и отбрасывать принцип непротиворечивости событий, а мне нельзя? Почему бы мне не вводить в произведения язык вымышленной науки или положения такой философии, о которой когда-то мечтал Борхес, или несуществующий словарь, энциклопедию, выдуманную космогонию, или вообще весь «сад наук»? Я думаю, что мне можно. Когда-то нельзя было входить в театр без элегантного костюма, теперь можно.
А перестает ли это быть литературой? Сложный вопрос. Я не протестую против подобной отповеди: это не литература! Прошу покорно, но что же это в таком случае? В последние годы я просто писал то, что хотел писать. А если это действительно можно назвать отходом от литературы, то я вижу в этом прежде всего отход от некоторых повествовательных условностей литературы, как традиционной, так и фантастической. Почему я не должен нарушать условности? А остается ли это литературой, не мне решать.