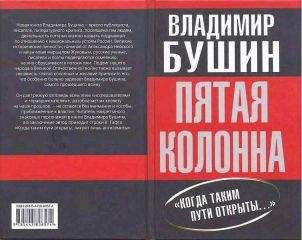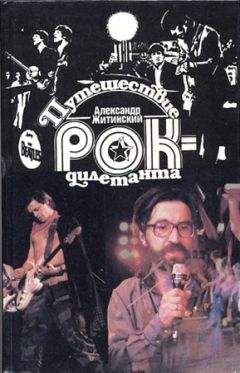А тут даже в ноябре, уже кругом снег, но все те же маскарадные размалеванные рожи. Мало того, раза два-три мы видим, как кто-то всласть умывается, фыркая и разбрызгивая воду, а комиссар Крымов даже ванну принимает в бочке. Значит, есть и вода, и снег, но это не меняет общей картины: солдаты все равно чертоподобны. Одно это не позволяет мне верить в так называемые батальные сцены и отвращает от художественной беспомощности, как от фальши. Даже немцы, сожрав в окружении всех лошадей, собак и кошек, не имели таких рож.
Как раз в эти дни, когда показывали фильм, в «Правде» печатались главы из документальной книги Алексея Шахова «Тракторозаводский щит Сталинграда». И есть там такой рассказ о передислокации 124-й стрелковой бригады: «Измотанная пешим переходом в 33 километра с юга на север города вдоль берега Волги, бригада более всего нуждалась в отдыхе.
Районные власти получили уведомление: к заводу подходит бригада, люди сильно устали, приготовьте воду. По призыву властей на улицы вышли женщины с ведрами, бочками, кое-кто даже принес молоко. Бойцы очень хотели пить…». Это было 29 августа. Урсуляк изукрасил бы гуталином и всю бригаду, и женщин с ведрами, а в кринки вместо молока налил бы… Что?
Да ведь еще и о том надо заметить, что в фильме ужасно много «черных квадратов», с них он и начинается. Ведь «квадрат» Малевича (1913) имел смысл дерзкого протеста против сахарного семирадовского академизма. Подобно желтой кофте молодого Маяковского:
Хорошо,
когда в желтую кофту
душа
от осмотров
укутана…
А здесь что? Вначале я даже подумал, что испортился мой телевизор. Но нет! Черный квадрат — свет — квадрат — свет — квадрат… Вдруг сквозь мрак вылезает из квадрата лицо, или часть его, или что-то совсем непонятное. И это ваше искусство? «В ограничении познается мастер», — сказал один умный француз.
В фильме вообще невпроворот лишнего, фальшивого, надуманного. Причем порой авторы даже опровергают своего драгоценного Гроссмана. Ведь такие, как он, без конца твердили и твердят, например, что НКВД — КГБ все знали, за всеми следили, были вездесущи и немыслимо было словечко смелое сказать. Но вот у Жени, сестры Людмилы Николаевны, жены главного героя Штрума, сидят в тюрьме бывший муж и брат, а она спокойно работает то ли в каком-то секретном КБ, то ли в закрытой военной организации. Да как это возможно? А сколько антисоветских разговоров и на фронте, и в тылу! Нет, такой народ победить фашизм не мог. Тут самое невинное — всеохватного характера слова Штрума: «Мы (!) живем не по совести, думаем одно, говорим другое…». Это во время войны-то! Куда же смотрит НКВД? Полная демократия путинского образца!..
Или вот молодая женщина Женя Шапошникова разошлась с мужем, его фамилия Крымов. Почему разошлась — неизвестно. Вполне можно предположить, что он оказался человеком недостойным или неумным, что и видно в последующих сценах на фронте, где он и говорит-то лозунгами. Будучи свободной женщиной, Женя горячо полюбила полковника Новикова. Мы видим сцену их пламенной любви. Потом Крымова сажают. Вполне естественно, что
Жене его жалко, она ему сочувствует и даже носит передачи. Но вдруг пишет Новикову, что из-за Крымова навсегда порывает с ним. Что за чушь? С какой стати? Разве любовь к Новикову может помешать ей сочувствовать и помогать Крымову? Или она надумала сойтись с нелюбимым после его освобождения? И такое письмо она шлет любимому на фронт, в Сталинград, где ему каждую минуту грозит смерть…
Кто-то сказал: у Достоевского входит черт, помахивая тросточкой, и этому веришь, а у Боборыкина появляется титулярный советник, и это сомнительно. Вот они и сделали боборыкинский фильм. Документально известно, что Сталин нередко звонил по телефону наркомам, ученым, директорам заводов, писателям, разумеется, военным и т. д. Звонит он и здесь ученому Штруму, но не верится! Штрум и не такая величина, чтобы Сталин знал о нем, и не обращался он к Сталину, и откуда ему знать о делах Штрума. Не верится! Коробила даже такая фальшивая деталь. В ответ на какую-то жалобу или угрозу кто-то кричит: «Пиши хоть Иосифу Сталину!». Никто никогда, ну, кроме родственников и близких друзей, в Советское время Сталина не называл Иосифом. Или — товарищ Сталин, или — по имени-отчеству, или просто — Сталин.
* * *
Не было у меня, говорю, желания смотреть еще один образец володарщины. Но какая реклама! Какие восторги! Какая квалификация! И как о «Конармии»: «Лучший роман XX века»… Даже — «Новая „Война и мир“»… Впрочем, нет, Наталья Иванова объявила по телевидению: выше «Войны и мира». Что у Толстого? Подумаешь, кто-то проиграл в карты сорок тысяч… Только это она и помнит. А одна знакомая сказала мне: «Как можно после холокоста читать Толстого или Тургенева? Вот Гроссман!..».
Но позвольте, после того как «Конармия» была прочно забыта, не так уж давно лучшим романом XX века непререкаемо был объявлен «Доктор Живаго». Это зафиксировано хотя бы в книге Е. Евтушенко, нелепо озаглавленной «Политика — привилегия (!) всех» (АПН. 1990. Стр. 625.53 прелестных фотографии автора). Читаем: «Пастернак дал мне прочитать рукопись «Доктора Живаго», но на преступно (!) малый срок — всего на ночь». Ну, должно быть, не просто дал, не позвонил: «Женя, зайдите, я дам почитать кое-что», а после того дал, как по Переделкино прошел слух, что Пастернак вдруг написал какой-то необыкновенный роман, и Женя попросил его хотя бы на одну ночку. Дело было наверняка так. И после этого с какой же стати срок для чтения назван «преступным»? Его роман, на сколько хотел, на столько и давал. И не верится, что на одну ночь. Другое дело, мне Союз писателей через Екатерину Шевелеву (спустя три года — скороспелую антисоветчицу) дал рукопись на день или два, перед обсуждением в Союзе надо было, чтобы роман прочитали возможно больше народу. Но со своим любимцем, каким изображает себя сам Евтушенко, Пастернак мог и не спешить. Но не знаю, да и не в этом дело.
«Роман меня тогда разочаровал, показался скучным, — пишет Евтушенко. — Я не прочел роман — я его перелистал. Когда утром я отдавал роман Пастернаку, он пытливо спросил:
— Ну, как?
Я как можно вежливей ответил:
— Мне больше нравятся ваши стихи.
Пастернак заметно расстроился…».
Еще бы не расстроиться! Начинающий гений не бросился на шею с поздравлениями и поцелуями… Но, думается, здесь не все так. Ведь если вещь талантлива, то достаточно почитать (а уж профессиональному-то литератору!) три-четыре страницы, чтобы понять это и уже не оторваться от книги. Тем паче что речь шла о такой интересной фигуре, хорошо известной и пламенно любимой молодым поэтом. Вспомним, как Некрасов прочитал рукопись повести «Бедные люди» никому неведомого автора и среди ночи кинулись они с Григоровичем к нему домой с поздравлениями и восторгами. А на другой день Некрасов объявил Белинскому: «Новый Гоголь!..». Тот усмехнулся: «У вас Гоголи-то как грибы растут». Но взял рукопись и сам не смог оторваться. Попросил вызвать автора и все твердил ему: «Да вы сами-то понимаете ли, что написали!». Повесть напечатали, и автор сразу стал знаменит.
Так что первое впечатление Евтушенко от «Доктора Живаго», скука от него были вполне естественны, правдивы. Вот что о том же «Докторе» записал в дневнике 10 сентября 1946 года Корней Чуковский: «Был на чтении у Пастернака (на даче в Переделкино. — б. б.). Он назвал кучу народа. Роман его я плохо усвоил… Но при всей прелести отдельных кусков — главным образом о детстве и о природе — он показался мне посторонним, сбивчивым, и слишком многое не вызвало во мне никакого участия. Тут и девушка, которую развращает старик-адвокат, и ее мать, с которой он сожительствует, и какой-то Николай Николаевич, умиляющийся Нагорной проповедью и утверждающий вечную силу евангельских истин… Потом Пастернак пригласил всех ужинать. Но я был так утомлен романом и мне показался таким неуместным этот «Пир Пастернака», что я поспешил уйти».
А вот запись 10 мая уже 1955 года: «Гулял с Ираклием (Андрониковым). Встретили Пастернака. У него испепеленный вид. Он закончил вчерне роман — и видно, роман дорел его до изнеможения. Как долго П-к сохранял юношеский, студенческий вид, а теперь это седой старичок, как бы посыпанный пеплом. «Роман выходит банальный, плохой — да, да — но надо же кончить» и т. д.
Но такие, как Евтушенко, не создавать мировых идолов, итобы бить ими противников, не могут. И вот… «В 1967 году после смерти Пастернака я впервые прочитал роман», — продолжает Евтушенко. Не слишком спешил, прошло уже семь годочков, как любимый поэт умер.
«В 1972 году в США Лиллиан Хелман, Джон Чивер и несколько моих друзей почему-то затеяли спор, какой роман самый значительный в XX веке, и все мы сошлись на „Докторе Живаго“».
Прекрасно. Кричали все друзья «Ура!» и вверх ермолки все бросали. Но что значит «самый значительный»? Уж если во всем веке, то — не надо скромничать — значит, самый лучший, самый выдающийся, знаменитый, наконец, великий!