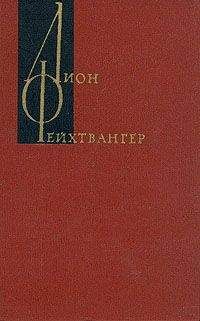Во всем, что касалось грамматики – немецкой, латинской, французской и греческой, – учителя наши шутить не любили. Мы обязаны были вызубрить правила от альфы до омеги. Кроме того, нас учили непревзойденным способом анализировать художественные произведения: например, изложить смысл гетевского стихотворения или сцены из Шиллера, подвергнув при этом деликатной критике погрешности поэта. Нас учили еще доказывать, в духе основных принципов «Лаокоона»[136], почему прекрасна песнь «Одиссеи», и, наконец, составлять план к заданному сочинению по правилам, восходящим к античной традиции. Мы заучили много ненужного и бесполезного хлама, но зато научились и кое-чему весьма полезному для писателя: основательности и методичности.
А затем, – и это было наше счастье, мое и Арнольда Цвейга, вступивших в жизнь такими неподготовленными, – эта самая жизнь взялась за наше обучение, и мы прошли школу более суровую, чем гимназия. Жестокая действительность швыряла и трясла нас, покуда не вытрясла все наше гуманитарное высокомерие, она выбила всю чепуху, которой нам забили головы. Она отверзла нам глаза. «В чем состоит изучение мировой истории и какова цель этого изучения?» Мы знали это теоретически. Но нам, тем, кому пошел уже седьмой десяток, жизнь преподала такой урок истории, который выпал на долю очень немногих поколений. И тогда-то мы сумели с наибольшей пользой применить те самые художественные приемы, которым пас научили в школе. Арнольду Цвейгу было с самой ранней юности ясно, что он рожден писателем. Но самыми лучшими «годами учения» для писателя оказались все те перевороты, которые пришлось пережить немцу нашего поколения, да к тому же еще еврею по крови. В период иллюзорного мира и иллюзорного порядка, царивших перед первой мировой войной, Арнольд Цвейг усвоил много дисциплин, полезных каждому писателю. Сейчас их уже вряд ли кто-нибудь изучает. Но потом пришла первая мировая война, и вторая мировая война, и революция, и контрреволюция, и осуществленный на практике фашизм, и империализм, и осуществленный на практике социализм, и это заставило писателя отбросить все бесполезные знания и разумно использовать полезные.
Творчество Арнольда Цвейга служит образцовым примером того, какие преимущества дает писателю жизнь на великом рубеже двух эпох.
Начальной школой Арнольда Цвейга была вильгельмовская Германия с ее гимназиями и университетами. Он научился там изысканно писать и, набив себе руку, написал много приятных вещей: новеллы и статьи, изящно-глубокомысленные безделушки, принесшие ему заслуженный успех, ибо они принадлежали к лучшему из того, что тогда писалось.
Но настоящим университетом Арнольда Цвейга оказалась мировая война. Она открыла ему глаза[137], она показала ему унтера Гришу, того самого Гришу, которого втянула в себя машина германской военной юстиции и германской военной политики. Война послала писателю Арнольду Цвейгу эту встречу. Она дала ему силы претворить судьбу унтера Гриши в один из символов, которые сохраняют значение и за пределами своей эпохи. Вначале этот Гриша предстает только как некий индивид, правда, очень реальный, – русский унтер, здоровый парень, с маленькими светло-серыми глазами, добродушный, вспыльчивый, раб своих страстей и инстинктов, впрочем, прирожденный солдат, любимец женщин. Но, возвышаясь над этим реальным образом, Гриша – тип Человека на войне, одного из сорока миллионов в солдатских шинелях, которые страдают, возмущаются и смиряются, – бессильной игрушки в руках власть имущих. И опять-таки, возвышаясь и над этим образом, Гриша, безо всяких авторских комментариев, только благодаря своей сущности и судьбе, становится олицетворением бедного, угнетенного, добродушного, невежественного и все же исполненного инстинктивной мудрости Человека, ибо словам этого романа присуща та сила, которая создала народные песни и народный эпос, сила, приумноженная художественным разумом мастера и реальной всепроникающей яростью потрясенного человека.
Появление этого первого большого немецкого эпоса о войне опередило его время, он толкал к выводам, к которым тогда пришли очень немногие, в нем изображалась война такой, какой в Германии ее видели еще только единицы. Сейчас «Гриша» читается как повествование о давным-давно ушедших временах, как роман исторический, но исторический в лучшем смысле этого слова. Ибо роман о солдате Грише – это действительно зеркало, и, отражая ушедшее десятилетие, оно отражает и наше, и каждый, кто прочтет сейчас эту книгу, скажет себе: да, именно так оно и было. И потому, что это было так, наступило все, что творится сегодня. Но если все, что казалось тогда крайней степенью варварства, кажется очень умеренным по сравнению с варварством наших дней, то общая картина все же верна, и писатель, очевидец этого прошлого, сумел правильно воспринять и правильно изобразить и нашу современность.
Арнольд Цвейг – прирожденный эпический писатель, и когда смелый опыт с этим романом удался, он, разумеется, пошел дальше и принялся за осуществление своего смелого замысла, за создание «Человеческой комедии» эпохи первой мировой войны. За создание чего-то вроде поэтической энциклопедии этой войны. Большая часть его энциклопедии уже написана, написана в самое подходящее время и в правильной перспективе, когда пережитое еще живо стояло перед глазами писателя, но когда он глядел на него уже с определенной дистанции.
Сегодня мы можем сказать – да, большое, смелое произведение удалось.
Если бы Цвейг создал только свой грандиозный цикл романов, и этого, право же, было бы достаточно, чтобы творчество писателя предстало перед нами во всем своем богатстве. Но ведь он написал еще и другие значительные романы, например, прозаический эпос «Топор Вандсбека», где опять-таки мелкий, незначительный случай становится фокусом и исходящие из него лучи освещают всю структуру гитлеровского режима. Знаем мы и множество новелл Арнольда Цвейга, пьесы, короткие рассказы, большие и маленькие эссе, множество критических заметок о политических и литературных событиях, огромное количество речей, произнесенных по самым разным поводам.
Быть может, те или другие из этих «второстепенных произведений» остались незавершенными. Но в этом повинна не скудость писателя, а скорее чрезмерное обилие материала, перегрузившее некоторые его вещи.
Могу засвидетельствовать все сказанное на основании самых точных данных. Я с радостью и гордостью смею называть себя одним из близких друзей Арнольда Цвейга, и в качестве такового я часто имел возможность наблюдать, каким обилием материала он располагает. Просто наслаждение слушать, как он говорит о своих планах, как развивает сюжет нового романа. Мы видим тогда, как работает фантазия писателя, как возникает и растет живая жизнь, Этому счастливому писателю не приходится долго делать наброски и планы, ему не приходится, задыхаясь от напряжения, накачивать свои произведения материалом, материал течет к нему сам. Сюжет его растет точно сам собой, ветви его сплетаются, он бурно устремляется вверх, дает новые ветви, но все объединено умом, упорядочивающим рассудком, знанием.
Неисчерпаемое обилие впечатлений позволило Арнольду Цвейгу понять, как многообразны люди; он с одинаковой уверенностью рисует и типическое, и особенное, и всегда у него в романе действует живой человек, и всегда его герой подчиняется логике напряженного и полного глубокого смысла действия. Творческая сила языка и широкая, глубокая образованность писателя находятся в постоянном взаимодействии и подсказывают ему в нужную минуту нужные слова.
Последний грандиозный переворот, крушение гитлеровской Германии, Арнольд Цвейг пережил, уже будучи зрелым человеком. Теперь, на пороге старости, он стал свидетелем последнего большого исторического явления нашего времени – возникновения новой угрозы миру и героических усилий этот мир сохранить. Пусть же Арнольду Цвейгу дано будет в расцвете его зрелой мудрости и сил изобразить эти новые явления и их смысл. Это больше, чем пожелание ко дню рождения, – это вера, основанная на глубочайшем сочувствии всему его творчеству.
Крамольные мысли о Льве Толстом
К немногим юношеским переживаниям, которые я помню и поныне в мельчайших подробностях, относятся глубокие чувства, испытанные мною при первом чтении великих произведений Льва Толстого. Реализм этих книг, ничего общего не имеющий с натурализмом, открыл мне тогда новую действительность. Поэтому с большим нетерпением взялся я за философские произведения писателя. И тем глубже разочаровал меня мистицизм этих книг, их туманные пророчества, столь чуждые осязаемой ясности художественных произведений писателя.
Позже я обнаружил, как часто теории великих писателе я оказываются запутанными, насколько они отстают от мыслей, заключенных в поэтических творениях этих писателей. Иной большой писатель старается внушить своим читателям, будто в произведении речь идет совсем не о том, что их в нем увлекло. Гете учил: «Твори, художник, не говори», – однако сам он очень много говорил, великого и значительного, но также и неясного, противоречивого, и не раз провозглашал эстетические принципы, полностью опровергаемые его произведениями. Фридрих Геббель в течение всей своей жизни мучительно старался показать своим почитателям, что они восхищаются не теми сторонами его таланта, которые достойны восхищения, и жаловался Эмилю Ку[138], своему последнему апостолу, что следует все время ходить вокруг читателей и слушателей с указкой, чтобы показать им, что, собственно, в его произведении является наиболее важным. Однако самыми живыми, самыми лучшими постановками его драм были те, которые осуществлялись режиссерами, вычеркивавшими как раз те места, которым сам автор придавал особое значение.