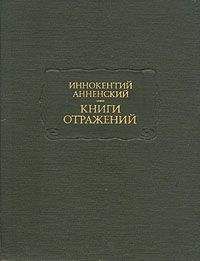Эта мысль может быть распространена не только на лирику, о которой здесь говорится, но и на прозу, как повествовательную, так и критическую, если она подлинно художественна. Но при этом необходимы уточняющие оговорки: затронутая черта художественной речи - отнюдь не результат разных читательских восприятий одного и того же произведения, а нечто присущее самой его ткани и отражающее определенный и широко распространенный тип художественного мышления; "мысленное доделывание" произведения совершается не по произвольной инициативе читателя, а в силу импульсов, идущих от прочитанного и предопределенных волей автора {См. об этом работы Б. А. Ларина "О разновидностях художественной речи" и "О лирике как разновидности художественной речи" в сборнике его статей "Эстетика слова и язык писателя" (Л., 1974) и в моей вступительной статье к названной книге: "Б. А. Ларин как исследователь языка художественной литературы". О смысловой многоплановости в стиле лирики Анненского подробнее см. в моей статье "Поэтическое творчество Инн. Анненского". - В кн.: Анненский И. Стихотворения и трагедии. Л., 1959, с. 46 и далее.}.
Не случайно поэтому для мастера многопланового слова, каким был Анненский, что художественное целое - будь то стихотворение или критическое эссе - не дает точных и определенных решений, а само возбуждает тревожные и отнюдь не риторические вопросы, т. е. такие, которые допускают неоднозначные ответы. И. И. Подольской (см. ее статью, с. 539) принадлежит указание на сходство концовок ряда стихотворений и статей Анненского, содержащих вопросы или полувопросы, намеки на догадку, недомолвки. Вот, например, окончание статьи "Гейне прикованный (Гейне и его "Романцеро")": "Неужто же точно не только Вицли-Пуцли - сказка, но некому слушать и этих благородных испанцев, потому что там ... ничего нет?
Неужто негодование и ужас, неужто желание отметить за свою никому не нужную измученность, за все обманы бытия - это все то, что остается исходящему кровью сердцу"? (с. 161).
Или предпоследний абзац статьи "Нос" (К повести Гоголя): "Это - не только конец повести, но и ее моральная развязка. Если только представить себе этих двух людей, т. е. майора и цирульника, которые, оглядываясь на пропасть, чуть было не поглотившую их существований, продолжают идти рука об руку. Куда? Зачем? Да и помимо этого, господа. Неужто правда прекрасна только, когда она возвращает Лиру его Корделию и Корделии ее Лира?" {Речь идет о сцене, когда Иван Яковлевич вновь бреет Ковалева после того, как к нему вернулся его нос.} (с. 39).
Или - подчеркнутая недоговоренность в конце статьи "Власть тьмы": "Вот она, черная бездна провала, поглотившая все наши иллюзии: и героя, и науку, и музыку... и будущее... и, страшно сказать, что еще поглотившая..." (с. 71).
Или - в последнем же абзаце "Виньетки на серой бумаге к "Двойнику" Достоевского" сперва ряд вопросов, а затем - после нескольких коротких фраз, обращенных автором к самому себе, далее же - рисующих обрывки картины ненастной петербургской ночи, недосказанность разгадки, перед которой автор останавливается в удивлении: "Что же это? Ночь или кошмар? Безумная сказка или скучная повесть, или это - жизнь? Сумасшедший - это или это он, вы, я? Почем я знаю? Оставьте меня. Я хочу думать. Я хочу быть один... Фонари тонут в тумане. Глухие, редкие выстрелы несутся из-за Невы, оттуда, где "Коль славен наш господь в Сионе". И опять, и опять тоскливо движется точка, и навстречу ей еще тоскливее движется другая. Господа, это что-то ужасно похожее на жизнь, на самую настоящую жизнь" (с. 24).
Все эти вопросы, полувопросы, недомолвки, полувыраженные догадки - итог сложного пути развертывания и переплетения мыслей и образов, в которых критиком отражены (именно отражены, как он это настойчиво подчеркивал в предисловиях к "Книгам отражений") и преломлены особенности произведений литературы, выявлена многоплановость их смысла. Не только у Достоевского и Гоголя, Лермонтова, Льва Толстого, Тургенева, но и у Гончарова, чьи романы в общепринятой трактовке получали однозначное раскрытие, или в реалистической социальной драме Писемского он открыл глубины, ранее не замечавшиеся. При всей нарочито акцентируемой субъективности тона литературных высказываний Анненского он в творчестве каждого автора, в каждом анализируемом произведении стремился вскрыть объективно новое, до него не привлекавшее внимания, проникнуть и в замысел писателя к в подтекст его создания, органически и иногда неожиданно связывая последнее с его человеческим обликом, с его биографией. "Меня интересовали не столько объекты и не самые фантонш, сколько творцы и хозяева этих фантошей" - сказано в предисловии к "Книге отражений" (с. 5).
Галерея авторов ("творцов и хозяев фантошей") и их персонажей ("самих фантошей"), таким образом, обширна и разнообразна. Проникая в своеобразие каждого из них, критик стремится и к своеобразию в речевых средствах их обрисовки. И здесь выявляется еще одна черта, отчасти роднящая критическую прозу Анненского с его поэтическим творчеством, но по сравнению с последним выступающая еще более отчетливо. В стихах Анненского (преимущественно в сборнике "Кипарисовый ларец"), наряду с голосом самого лирика, звучат иногда и голоса определенных персонажей, отнюдь не тождественных автору - будь то продавец воздушных шаров, зазывающий публику и рекламирующий свой товар (стихотворение "Шарики детские" в "Трилистнике балаганном"), или герой-монологист стихотворения "Прерывистые строки", проводивший на поезд свою подругу, с которой он обречен жить в разлуке, или супружеская чета, обменивающаяся раздраженными репликами, которые перемежаются выкриками торговцев (стихотворение "Нервы" в цикле "Разметанные листы"), или участники трагического диалога в стихотворении "Милая" ("Складень романтический"), и др. В критической прозе поэта слышится много больше голосов.
Образ автора-критика или, вернее, разные образы тех монологистов, которые в данный момент ведут у Анненского речь, часто сменяются. Перед нами, правда, чаще всего тот, в ком мы имеем основание видеть реального автора, размышляющего, вспоминающего о виденном и пережитом им самим, ставящего читателю тревожащие его самого вопросы, но довольно часто перед нами также - пестрые и многообразные лики тех действующих лиц, о которых или за которых он начинает говорить - будь то майор Ковалев из "Носа", или господин Прохарчин из одноименной повести Достоевского, или Аратов из тургеневской "Клары Милич". Иногда - это писатель, о котором сейчас говорит критик и чьи мысли и переживания он пытается разгадать, начиная рассуждать (пусть и в третьем лице) как бы от его имени - касается ли дело Гоголя, Достоевского, Тургенева, Толстого, Чехова, Ибсена. И, наконец, нередко это словно бы некто, наблюдающий со стороны, но с близкого расстояния, созерцатель изображенных людей и их поступков, то удивленный, то настороженный, всегда внимательно присматривающийся к ним.
Это многоголосие, смена образов говорящего (а речь Аниенского-критика прежде всего живая, рассчитанная на произнесение, отнюдь не книжная речь) вызывает непрерывную смену точек зрения на тот или иной мотив, то или иное действующее лицо, и этой сменой ракурсов, многосторонностью освещения обусловливается своего рода колебание и углубление всей перспективы, в которой нам предстают создания творчества, - особенность, стоящая в тесной связи с общей смысловой многоплановостью, характерной для Анненского и как для лирика и как для критика.
Критик оказывается своеобразным драматургом - создателем театра одного актера: там, где он мыслит или говорит за кого-либо из персонажей или за писателя, он, перевоплощаясь в его образ, создает и целые монологи, входящие в состав роли (точнее - речевой партии), которая исполняется уже не в самом произведении, а в статье-эссе Анненского, но может включать в себя иногда и прямые цитаты. Эмоционально-стилистический диапазон этих монологов широк: в них и тревога предположений, и пафос утверждений, и лиризм раздумий и созерцаний, и бытовой интеллигентский говорок, и просторечие, изредка и косноязычное бормотание, и непринужденная естественность, разговорная простота, и лирическая задушевность. Примечателен конец статьи "Юмор Лермонтова", завершающей цикл-триптих "Изнанка поэзии". Речь сперва о Лермонтове идет в третьем лице. А затем, сопоставив его с Гоголем и с Достоевским и противопоставив Печорина "Башмачкиным и Голядкиным", Анненский неожиданно переходит на прямую речь от первого лица, и оказывается, что это - речь от лица Лермонтова, включающая при этом знаменитые лермонтовские образы, но не в форме прямых цитат:
"Люблю ли я людей или не люблю? А какое вам, в сущности, до этого дело? Я понимаю, что вы хотите знать, люблю ли я свободу и достоинство человека. Да, я их люблю, потому что люблю снежные горы, которые уходят в небо, и парус, зовущий бурю. Я люблю независимость, не только свою, но и вашу, а прежде всего независимость всего, что не может сказать, что любит независимость. Оттого я люблю тишину лунной ночи, так люблю и так берегу тишину этой ночи, что, когда одна звезда говорит с другой, я задерживаю шаг на щебне шоссе и даю им говорить между собою на недоступном для меня языке безмолвия. Я люблю силу, но так как вражда часто бессмысленна, то противоестественно и ее желать и любить. Какое право, в самом деле, имеете вы поить реку кровью, когда для нее тают чистые снега? Вот отчего я люблю силу, которая только дремлет, а не насилует и не убивает... Что еще? Смерть кажется мне иногда волшебным полуденным сном, который видит далеко, оцепенело и ярко. Но смерть может быть и должна быть и иначе прекрасной, потому что это - единственное дитя моей воли, и в гармонии мира она будет, если я этого захочу, тоже золотым светилом. Но для этого _здесь_ между вами она должна быть только _деталью_. Она должна быть равнодушная" (с. 140).