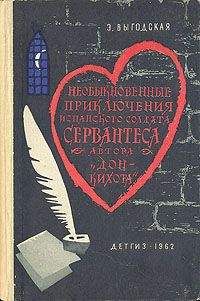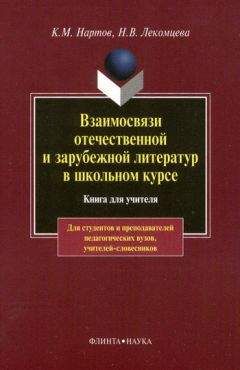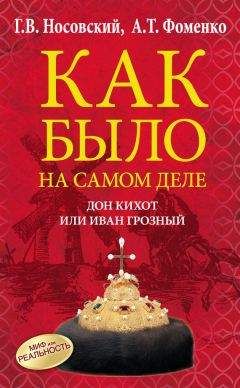Ноябрь, 17.
Мигель де Сервантес Сааведра.
Перевод Маргариты Смирновой
Письмо Дону Педро Фернандесу де Кастро от 19 апреля 1616[13]
Дону Педро Фернандесу де Кастро, графу Лемосскому, Андрадскому и Вильяльбскому, маркизу Саррийскому, камергеру его Величества, председателю Высшего совета Италии, командору командорства Сарсийского ордена Алькантары.
Не хотел бы я, чтобы те старинные строфы, которые в свое время таким успехом пользовались и которые начинаются словами: «Уже я ногу в стремя заношу», — вполне пришлись к месту в этом моем послании, однако я могу начать его почти так же:
Уже я ногу в стремя заношу,
Охваченный предсмертною тоскою,
И эти строки Вам, сеньор, пишу.
Вчера меня соборовали, а сегодня я пишу эти строки; время бежит, силы слабеют, надежды убывают, а между тем желание жить остается самым сильным моим желанием, и не хотелось бы мне скончать свои дни, прежде чем я не облобызаю стопы Вашего сиятельства, ибо столь счастлив был бы я видеть Ваше сиятельство благоденствующим в Испании, что это могло бы вдохнуть в меня жизнь. Но если уж мне положено умереть, то да исполнится воля небес, Вы же, Ваше сиятельство, по крайней мере будете знать об этом моем желании, равно как и о том, что Вы имели во мне преданнейшего слугу, готового пойти больше чем на смерть, дабы доказать Вам свое рвение. Со всем тем я заранее радуюсь прибытию Вашего сиятельства, ликую, представляя себе, какими рукоплесканиями будете Вы встречены, и торжествую при мысли о том, что надежды мои, внушенные мне славой о доброте Вашего сиятельства, оказались не напрасными. В душе моей все еще живут дорогие образы и призраки «Недель в саду» и достославного «Бернардо»[14]. Если ж, на мое счастье, выпадет мне столь великая удача, что небо продлит мне жизнь, — впрочем, это будет уже не просто удача, но чудо, — то Вы их увидите, а с ними и конец «Галатеи», которая Вашей светлости пришлась по вкусу. Да почиет же благодать Господня на этих моих будущих трудах, равно как и на Вашем сиятельстве.
Писано в Мадриде, тысяча шестьсот шестнадцатого года апреля девятнадцатого дня.
Слуга Вашего сиятельства
Мигель де Сервантес.
Перевод Н. Любимова
Франсиско де Кеведо
Завещание Дон Кихота
Перевод М. Корнеев
Мука из костей и плоти,
Что камни и палки смололи, —
Лежит Дон Кихот из Ламанчи,
Великой терзаясь болью.
Щит ему служит ложем,
Другой — ему вместо покрова:
Подобен он черепахе,
Из панциря голову тянет.
Жалобно, голосом слабым,
Писаря рядом приметив,
Молвит он, шепеляво,
сквозь зубы, те, что остались:
«Ты запиши, славный рыцарь,
Пусть Бог тебе будет защитой,
Моё завещанье, что станет
Волей моею последней.
Вместо ‘В уме моём здравом’,
Вместо ‘И в памяти твёрдой’,
Ты укажи ‘в полуздравом’:
Ведь нет ни твердыни, ни здравья!
Земле завещаю я тело,
Съест его, думаю, скоро —
Что там, помилуй, осталось,
Лишь на зубок — и не боле.
Гробом же пусть станут ножны,
Те, в коих шпага лежала,
В них, как клинок, соскользну я,
Им и под стать мои мощи.
После ж бальзама и церкви,
На камне моём надгробном
Высечь я завещаю
Эти слова простые:
‘Здесь Дон Кихот похоронен,
Который в разных пределах
Кривду и Одноглазье
Бил и крушил вслепую’.
Острова завещаю я Санчо,
Они мне с боями достались,
В богатстве жить он не будет,
Так пусть хоть покой познает.
Засим, моему Росинанту
Поля и луга завещаю,
Что Бог взрастил для прокорма
Всякой невинной твари;
Хочу ему жизнь без приюта,
И скорбной старости с нею,
Чтоб думал скорей о болячках,
Чем о сене насущном;
А мавр, колдовское виденье,
Нанесший мне оскорбленье,
На том дворе постоялом,
Чтоб сам тумаков тех отведал.
Велю, чтоб погонщикам мулов
Вернулись все их побои —
Сие облегчило б сторицей
Спину мою и совесть.
А палки, что мне, всё ж, достались,
Должны в сто вязанок сложиться,
И милой моей Дульсинее
Помочь скоротать эту зиму.
Я шпагу гвоздю завещаю:
Храни её, гвоздь, обнажённой,
Пусть ржавчина лишь и посмеет
С годами её коснуться.
Копьё пусть послужит метлою:
Когда потолок в паутине,
Разить пауков будет славно —
Примером — Святой Георгий.
Доспехи мои: шлем, кирасу,
Коль будет нужда в них и дале,
Наследнику я завещаю —
Кихоту, что явится следом.
Иное ж добро, что я нажил
И в этом мире оставлю,
Пусть делу послужит благому —
Спасенью принцесс от драконов.
А вместо молитвы и мессы,
Пусть мне посвятят турниры,
Ристалища славные, битвы,
Они мне милее мессы.
Пусть душеприказчиком станет
Дон Бельянис, что из греков,
Иль славный сын Амадисов,
Иль сиятельный рыцарь Феба».
Вступает теперь Санчо Панса,
Его, право, стоит послушать,
Молвит он внятно и ясно,
Раздумно и неторопливо:
«Добрый вы господин мой,
Коль на ответ и на суд свой
Вас призывает Создатель,
Негоже нести ахинею!
Это ведь я, Санчо Панса,
Тот, что у вашего ложа
Слёзы льёт, горем убитый,
Как водопад над скалою.
Пусть душеприказчиком станет
Тот пастырь, что вас исповедал,
Иль козопас Хиль Пансуэка,
Иль член городского совета.
И бог с ними, с Фебом и греком,
Что столько тревог причинили,
Пусть вам священник поможет,
В этом последнем сраженье».
«Верно речёшь, друг мой Санчо, —
Сказал Дон Кихот негромко, —
Пусть явится Бельтенеброс,
Пустынник с Бедной Стремнины».
Уж Смерть на пороге встала —
И, в стихаре, со свечою,
Монах подошёл к изголовью…
Рыцарь, его лишь заметив,
Понял — явился кудесник,
Околдовавший Никею!..
Дабы с ним объясниться,
Он голову поднял и… рухнул.
Видя, что рыцарь пред ними
Лишён уже воли и слуха,
Зренья и, собственно, жизни —
Монах и писец удалились.
Рубен Дарио
Д. К. Из книги «Фантастические рассказы»
Перевод М. Смирнова
Мы стояли гарнизоном рядом с Сантьяго-де-Куба. Прошел дождь. Жара, тем не менее, была нестерпимой. Ожидалось прибытие роты из Испании — свежих сил, которые позволили бы нам покинуть место, где мы, бездействуя, полные гнева и отчаяния, умирали от голода. Подкрепление, согласно полученному уведомлению, должно было поступить этой самой ночью.
Поскольку жара усиливалась, а сон не приходил, я вышел из палатки подышать. Дождь перестал, небо слегка расчистилось, и в черной бездне засверкало несколько звезд. Я дал волю мрачным мыслям, что роились в моей голове. Стал думать обо всем любимом, оставшемся там, далеко; о собачьей доле, шедшей за нами по пятам; о том, что Господь мог бы иначе взмахнуть бичом своим, и мы ступили бы на другой путь — путь быстрого реванша. О чем только я не думал… Сколько времени прошло? Звезды, как я заметил, стали бледнеть; свежий ветерок задул со стороны зари, она тронула край неба, и вот труба побудки брызнула своим утренним сигналом, коснувшимся моего слуха, сам не знаю почему, нотами, полными грусти.
Вскоре объявили, что рота уже близко. В самом деле, она не заставила себя ждать, и приветствия прибывших товарищей смешались с нашими в первых лучах нового дня.
И вот мы уже разговорились. Нам привезли вести с Родины. Товарищи знали о печальном исходе последних боев. Как и мы, они были в отчаянии, но полны жгучей решимости сражаться, ринуться в яростную пучину мести, сделать невозможное, лишь бы сокрушить врага. Все они были молоды и горячи — все, кроме одного; все были рады перекинуться словом — все, кроме одного. Они привезли нам еду, которую мы тут же поделили. Когда пришло время завтрака, все набросились на скудный паек — все, кроме одного.
Было ему около пятидесяти, хотя, кто его знает, может, и все триста. Его скорбный взгляд проникал в самые глубины наших душ, словно желая поведать нам мудрость веков. В те редкие моменты, когда к нему обращались, он почти не отвечал — лишь слабо улыбался; он держался особняком, искал уединения и все время смотрел куда-то в глубь горизонта, в сторону моря.