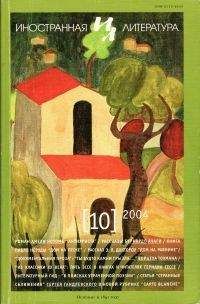В обществе мещанской безличности и лицемерной трусости Ибсен создает культ личной энергии, "пышущей здоровьем совести: так, чтобы сметь то, чего больше всего желаешь!" ("Строитель Сольнес").
Культ одинокой гордой силы принимает у Ибсена иногда прямо-таки отталкивающие формы. Рядом с общественно-наивным ученым Штокманом он готов поставить финансового авантюриста Боркмана, которому автор отнюдь не с целью иронии влагает в уста такие речи: "Вот оно, то проклятие, которое висит над нами, исключительными, избранными натурами. Толпа, масса... все эти посредственности... не понимают нас" ("Джон Габриель Боркман").
Ибсену нет дела до того, что нравственная сила, как и всякая иная, определяется не одной величиной, но и точкой приложения и направлением. Но характерно для Ибсена как для деятеля в сфере мысли, что особенные симпатии его направлены все же в сторону умственной силы. Кто самый опасный враг истины и свободы? - спрашивает он именем д-ра Штокмана. "Это - сплоченное большинство, проклятое либеральное большинство". Какая самая гибельная ложь? Это - "ученье, будто толпа, несовершенные и невежественные существа, имеет такое же право судить, управлять и властвовать, как немногие истинные аристократы ума" ("Враг народа").
Таковы заключительные выводы, "великие открытия" доктора Штокмана.
Нужно ли доказывать, что они не имеют никакой общественной ценности? Каков, в самом деле, будет тот общественный строй, в котором "судить, управлять и властвовать" будут немногие "истинные аристократы ума"? И какой ареопаг займется различием "истинных" от "неистинных"?
Если бы "толпа" призывалась для решения вопроса о верности той или иной научной теории, философской системы, то Штокман-Ибсен был бы тысячу раз прав в своем оскорбительном отзыве о дееспособности "сплоченного большинства". Мнение Дарвина по биологическому вопросу в 100.000 раз важнее, чем коллективное мнение митинга в 100.000 человек.
Но совсем другое дело - поле социальной практики, с ее глубоким антагонизмом интересов, где дело идет не об установлении научных или философских истин, а о постоянных компромиссах между тянущими в разные стороны общественными силами. В этой области подавление большинством меньшинства, если оно соответствует действительному соотношению общественных сил, а не вызвано временно искусственными мерами, несравненно выше, чем подавление меньшинством большинства, совершаемое нередко под покровом сумерек.
Разумеется, это арифметическое, числовое решение общественных вопросов не есть идеал общественной солидарности, - но, покуда общество расчленено на враждебные группы, примат большинства над меньшинством сохраняет все свое глубокое жизненное значение, и апелляция от "плебейского духа" сплоченного большинства к "умственному аристократизму" немногих избранных будет оставлена верховным судилищем жизни "без последствий".
В цитированной драме ("Враг народа") превосходно проявляются две основные черты творчества Ибсена: гениальное воплощение действительности и полное отсутствие ресурсов для положительного идеала.
В течение всей драмы вы с живейшим интересом следите за тем, как чисто технический, по-видимому, вопрос городской канализации зацепляется за имущественные отношения городского населения, создает группировку партий и заставляет д-ра Штокмана перейти от химического исследования воды к анализу социальной среды; вы с затаенным в груди дыханием наблюдаете за нарастанием волны оппозиционного настроения в груди честного ученого, - и в результате вы останавливаетесь в досадном недоумении, в обидном разочаровании перед скудной проповедью "умственного аристократизма".
А! Мы слышали и слышим эту возвышенную проповедь с разных сторон и не только от поэтов, но и от экономистов и социологов...
Так, например, проф. Шмоллер*129, как известно, стоит за социальную реформу: он хочет удовлетворения требований рабочих. Но всех ли? О, нет! Существуют, видите ли, требования "справедливые" и "несправедливые". Эгоистические классовые требования очень далеки от профессорской справедливости. Справедливые интересы, это - не классовые интересы, но внеклассовые, сверхклассовые, надклассовые. В основе классовых интересов лежит грубая экономика; сверхклассовые, справедливые интересы возвышаются на этико-правовом принципе "распределительной справедливости" (verteilende Gerechtigkeit). Этот универсальный, недоступный классовым притязаниям принцип гласит: распределение материальных благ и почестей должно соответствовать духовным свойствам людей; поэтому - либо доходы должны быть распределены соответственно добродетели (г. Шмоллер, это опасно!), либо добродетель должна быть повышена на соответственное число процентов у лиц, обладающих высокими доходами (г. Шмоллер, это недостижимо!).
Принцип "распределительной справедливости", этот достойный плод филистерского глубокомыслия, оказался бы, следовательно, обладающим довольно рискованными сторонами, если бы проф. Шмоллер не сделал носителями этого принципа "аристократов образования и духа" - представителей либеральных профессий, чиновничество и т.д. (конечно, сюда же включены и аристократы университетской кафедры). Но раз это сделано, все обстоит благополучно. Классы, участвующие в процессе материального производства и являющиеся, вследствие этого, носителями эгоистических классовых интересов, раз навсегда устраняются от универсального принципа. Классы материального производства настолько же ниже "распределительной справедливости", насколько прирожденные носители этой справедливости выше материального производства.
Если бы "аристократы" университетского образования и профессорско-бюрократического духа не имели своих корпоративных интересов, тогда плод аристократического духа проф. Шмоллера оказался бы действительно лишенной социальной плоти сверхклассовой теорией... Но...
Но так как "распределительная справедливость" отдается в бессменное содержание "аристократам образования и духа", а эти последние, раз навсегда устраненные от участия в материальном производстве, тем самым поступают на бессменное содержание к классу материального труда, - принцип "распределительной справедливости" оказывается фиговым листком, плохо прикрывающим нагое бесстыдство профессорско-бюрократических корпоративных вожделений.
Проф. Штаммлер*130, другой "аристократ образования и духа", соревнуя своему собрату, тоже пытается подняться над "социальными стремлениями, вызванными чисто субъективными, порожденными лишь данным положением вещей импульсами, до высоты социальных стремлений, объективно обоснованных, оправданных с объективной точки зрения". С этой похвальной целью аристократ Штаммлер вооружается идеалом "общества свободно желающих людей", как высшей точкой зрения во всех социальных суждениях, как формальной идеей, на основании которой можно решить, "является ли эмпирическое или желаемое социальное состояние объективно оправданным".
С этой минуты проф. Штаммлер стоит уже над классами; история выводит его из сутолоки житейской борьбы и усаживает на судейский трон, как "свободно желающего человека", чтобы во всеоружии универсального объективно-патентованного идеала творить немилостивый суд и суровую расправу над "социальными стремлениями, порожденными данным положением вещей".
Незачем и говорить, что проф. Штаммлеру незачем вставать со своей профессорской кафедры, она же судейский трон, для участия в грубом процессе материального производства. Зато можно поручиться, что если б (о, дивная мечта!) проф. Штаммлер был призван вместе с проф. Шмоллером к заведованию интеллигентным процессом материального распределения, то "свободно желающий человек" Штаммлер и "аристократ образования и духа" Шмоллер действовали бы настолько солидарно и неукоснительно, что носители "социальных стремлений, порожденных лишь данным положением вещей", и представители эгоистических классовых интересов, лишенных под собою солидной почвы "этико-правового принципа", получили бы достойную кару за отсутствие в них Штаммлеровского объективизма и Шмоллеровской добродетели.
Нет, не от корпорации умственных аристократов, которой будет предоставлено "судить, управлять и властвовать", нужно ждать спасения.
Нам необходимо остановиться еще на женщинах Ибсена, которому многие даже готовы преподнести социальный титул "певца женщин". И, действительно, Ибсен уделяет много внимания обрисовке женских характеров, которые в его драмах представляют значительное разнообразие.
В Эллиде ("Женщина с моря"), отчасти в Марте ("Столпы") воплощены мечтательные порывания из тупой жизни - туда, где "небо шире... тучи ходят выше... воздух свободнее...", порывания, на высших стадиях переходящие в желание "ударить в лицо всей этой благопристойности", не останавливающиеся даже перед разрывом с родиной (Лона и Дина в "Столпах") или с мужем и детьми (Нора). Перед нами вереницей проходят самоотверженные женщины Ибсена, всегда живущие для кого-нибудь и никогда для себя (тетушка Юлиана в "Гедде", г-жа Линден в "Норе"), несчастные рабыни супружеского и материнского долга (Елена Альвинг в "Привидениях"), мягкие, болезненно-чуткие, любящие и безвольные, как Кайя Фосли ("Строитель") или г-жа Эльвстед ("Гедда"), наконец, женщина во вкусе fin de siecle (конца века), душевно-изломанная, взвинченная декадентка Гедда Габлер.