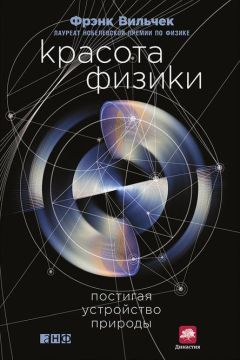(Вспомним утверждение Энгельса, будто инцест — кровосмесительный брак — был запрещен, когда люди открыли опасность кровосмешения и убедились, что экзогамные браки дают более качественное потомство. Увы: даже некоторые дожившие до нового времени архаичные охотничьи племена не усматривают непосредственной связи между соитием и деторождением. Но важнее другое. Едва ли наши темные пращуры могли открыть опасность кровосмешения, будь они даже не менее тонкими аналитиками, чем сам Энгельс, поскольку такой опасности просто–напросто не было. Опасность вырождения — всего вероятнее — следствие, а не причина инцестных табу. Она появилась из‑за того, что в результате инцестных табу человек сохранял и накапливал рецессивные признаки, становясь биологически неустойчивым существом, — подобно тому как биологически неустойчивы, то есть, в отличие от своих диких сородичей, подвержены опасности вырождения, сельскохозяйственные культуры. Не люди создавали запреты, а запреты создавали людей.)
Симбиоз с животным–тотемом спасителен, но в то же время и тягостен для прачеловека, являющего собой все же высокоорганизованное животное. Его инстинкты ослаблены, недостаточны, но все же они, пусть «темные» и «слепые», определенно есть (в противном случае прачеловек утратил бы волю к жизни, уснул, угас). Жизнь по плану тотема, оказывающегося для прачеловека первым условным — протосоциальным — планом, вела к жесточайшему подавлению собственных животных инстинктов прачеловека, порождала невротическую коллизию, создавала напряженность структур психики, формировала тормозные устройства (возможно, заставляющее замещать, имитировать подавленное действие условными дубликатами: криком, жестом).
…Животное существует в мире «свободной необходимости», ибо живет по инстинктивной, врожденной или частично передаваемой путем обучения, но хорошо согласованной с инстинктом программе; оно является «свободным рабом» — рабом природы в себе. Прачеловек — это странное существо, отпущенное природой на волю, но без достаточных для существования средств, «преступившее» порядок природы, оказывается каторжным, подневольным рабом, попадает в рабскую зависимость от природы внешней ему, чужой. «Свободная необходимость» природы раскалывается на свободу и необходимость, свобода оказывается оборотною стороною рабства, возникает фундаментальная антиномия отчуждения–освобождения, модифицированная затем в антиномиях падения–возвышения, утраты–обретения, преступления–подвига, греховности–святости и так далее, — антиномия, которая извечно решается человеком, но никогда не может быть решена, ибо преодоление этой драматической антиномии было бы преодолением сущности человека.
Человек становится «первым» — самым могущественным и умелым в мире, ибо он «последний» — самый неприспособленный, самый неведающий, как жить. Человек познает свободу, ибо он «изгнан», отчужден от природы и вынужден нести бремя выбора и ответственности — осознанной, не–вольной необходимости. (Эта сущностная коллизия человека гениально схвачена в мифе о трагическом познании добра и зла, но схвачена в «перевернутом» виде: познание, грех, бог и тому подобное, равно как и труд, — не причина, а результат отчуждения, «изгнания» пралюдей из «рая» — тотального порядка природы).
Вопреки наивно–идиллистическим представлениям о свободных, как пташки божии, дикарях, свобода являлась прачеловеку как чудовищное сверхрабство, отверженность, неполноценность, проклятье, если пытаться выразить это объъективное состояние в наших понятиях. Но прачеловек не может преодолеть отчуждение, превратившись в полноценного зверя (рад бы в рай, но грехи — дефекты инстинктивной коммуникации — не пускают), он вынужден компенсировать свою коммуникационную недостаточность подражанием, заимствованием, репродуцированием умений, повадок, органов полноценных животных. Однако заметим, что к деятельности по неинстинктивной программе по чужому образу и подобию, то есть к труду, прачеловека побуждают потребности, присущие всем животным: стремление утолить голод, защитить себя от опасности и так далее. Труд — лишь способ удовлетворить потребности; никакой потребности в нем самом у прачеловека не может быть; труд — это необходимость («проклятье»), а не потребность. Но вот сам «поиск образа», восстановление поврежденной коммуникации со средой, успокоение травмированного инстинкта единства с природой — потребность, первая человеческая потребность, возникающая у ущербного существа. У животных с неповрежденным инстинктом такой потребности просто не может быть, как нет потребности в пище у сытого.
Через миллионы лет эта первая человеческая потребность породит специфическую форму ее удовлетворения: творчество. Творчество предстанет особым видом труда, профессионализируется, то есть отождествится с деятельностью, совершаемой за определенную мзду, сумму благ, необходимую автору, чтобы удовлетворить прежде всего свои животные, а затем и некоторые человеческие потребности. Но в критических ситуациях всегда будет выявляться различие между творчеством и трудом, выявляться различия между творчеством и трудом, выявляться грубо и зримо. Человек никогда не борется за право трудиться — даже если и выступает под лозунгами борьбы за право на труд. На самом деле он борется за право иметь средства к существованию и за свой социальный статут. Но за право на творчество, за созданные ими идеи, образы люди шли на костер. Любые поделки и суррогаты создаются за деньги, и лишь шедевры — даром. Если автору за них что‑то платят — то и вовсе по глупости, ибо просто не понимают, что великие творения духа — научные, художественные, любые — создаются и тогда, когда за них расплачиваются не с авторами, а сами авторы: порою бедностью и лишениями, порою свободой, порою жизнью. Потому что творчество, будучи деятельностью, абсолютно необходимой для существования общества, это в то же время и самоцельная, потребительная деятельность, замена утраченного инстинкта.
Подражая животному, заимствуя, имитируя, «похищая» его планы и способы жизнедеятельности, ущербное существо как бы преодолевает свою ущербность, свою отчужденность, восстанавливает поврежденную связь с природой, удовлетворяет потребность единства с ней. Но «возвращаясь» подобным путем к естественному животному состоянию, становящийся человек в действительности все более удаляется от него, создавая искусственную систему — «вторую природу», культуру. Этот «уход–возвращение» (субъективно — возвращение, объективно — уход) — уход, провоцируемый стремлением к возвращению, восстановлению единства с природой, — и есть один из фундаментальных архетипов культуры: триадический «архетип спирали». Видимо, он изначально присущ всем культурам, но у народов, стабилизировавшихся на низких уровнях исторического развития, живущих, как и все люди, уже не в природе, не в боге, но ближе к «природе–богу», «у–бого», слился с символом общечеловеческого тотема — Солнца, с идеей круга и представлением о вечном круговращении.
В кризисные моменты развития результат отчуждения — культура в целом или отдельные ее элементы — предстает человеку как причина этого отчуждения — «проклятье», вызывая невротическую реакцию разрушения. В таких ситуациях, стремясь вернуться к «нормальному» состоянию, преодолеть отчуждение, человек крушил систему искусственных регуляторов отношений в сообществе и между сообществом и между сообществом и природой, святотатствовал, преступал самые страшные табу, испытывая величайшее наслаждение, ибо возвращался к своей животной естественности, обретал утраченный «рай» — достигал на короткое время некой разновидности антиструктурного состояния, которое этнограф В. Тэрнер называет «коммунитас». Завершалось это неизбежно трагически, ибо «коммунитас» — это состояние, не имеющее позитивного воплощения, существующее только в форме разрушения, преступления, выпадения из культуры, «греха». Иными словами, стремление к разрушению — противоположный творчеству путь преодоления отчуждения, преступный путь возвращения в «рай». Поэтому преступление, как и творчестве, столь часто выглядит амотивированным, бескорыстным, самодовлеющим. В «начале» завязи они вообще едины.
Но и преступные влечения человека ассимилировались культурой, причем не только как источник иррациональной энергии революционных и прочих взрывов, но и как очень древний культурологический фактор, что доказывают, например, обряды сакрального преступления, ритуальные нарушения культурных запретов. Преступление, нарушение табу, ломка структур культуры даровали человеку «неизъяснимое наслаждение», «рай». Вместе с тем люди сознательно совершали грех, что наполняло их чувством ужаса, ощущением близкой бездна (и создавало праэстетическую амбивалентность эмоции ужаса–наслаждения). Но это был уже не безусловный грех, а ритуал, особый культурный акт, консолидирующий сообщество: конкретное содержание ритуала преодолевалось сверхсодержанием — культурным значением целого, варварство служило культуре, биологическое — духовному, озверение — очеловечиванию.