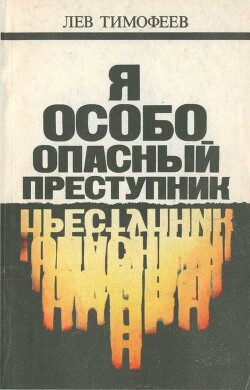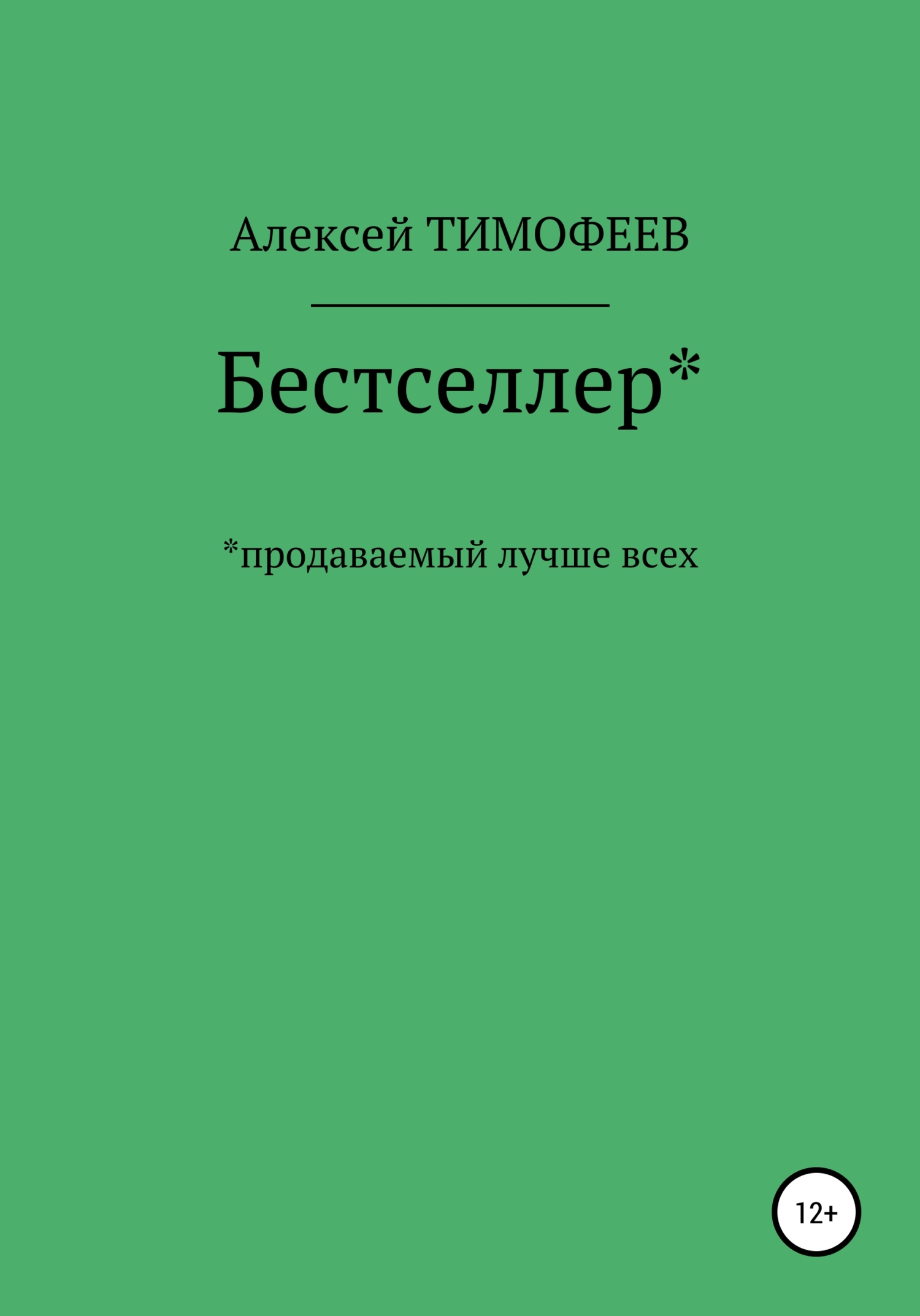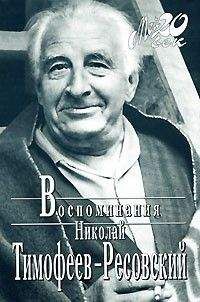ПОКАЗАНИЯ ОБВИНЯЕМОГО
Мне было спокойно в следственной тюрьме. Да и в лагере потом было спокойно.
В первые часы после ареста и в первые несколько дней я очень остро чувствовал свое новое положение. Жизнь резко изменилась. Но еще более резко изменилось восприятие жизни. Конечно, я заранее знал, что меня могут арестовать, и мы с женой обсуждали такую возможность, но одно дело — болезнь, хоть болезнь и смертельная, а все надеешься, — и другое дело — смерть. Впервые я понял, что значит умереть для прежней жизни. То есть слова-то эти я хорошо знал — за несколько лет до того я был крещен, и много раз читал и слышал эти слова, но умер только теперь в глухой, без окон, с пыльной решеткой вентиляционного отверстия камере, куда меня завели для предварительного обыска, медицинского осмотра и прочих процедур, предшествующих заключению в тюрьму.
Я умер и все лучше понимал это по мере того, как меня пытались допрашивать, по мере того, как меня обыскивали, отнимали металлические предметы: нательный крест, часы, авторучку, даже брюки мои отняли, найдя в них запрещенную металлическую застежку, и выдали мне обесцвеченные многими стирками серые зэковские портки на веревочной завязке, — впрочем, оказавшиеся очень удобными, как пижама, — я их проносил все девять месяцев пребывания в Лефортове…
Я умер. Но уже и после смерти прежняя жизнь не отпускала меня, и во сне я держал на руках своих детей, ласкал жену — так постоянно, так осязаемо, что сознание подсказывало какие-то как бы реалистические обоснования: это меня на день отпустили домой, — и пробуждение в жизнь было такой же четкой реальностью, как и реальность сна: я как бы запросто переходил из пространства в пространство.
Конечно же, я тревожился за моих близких. Я знал, что им сейчас много хуже, чем мне, а вскоре и вовсе стал интуитивно ощущать тяжелую болезнь жены (как-то в камере мне приснилось много свежего, кровавого мяса, — кажется, это была человечина, как в фильме А.Германа), потом же и прямо узнал о болезни: в коридоре суда и после, на свидании, увидел жену, утратившую разум, понял, что дети будут расти и без отца, и без матери.
И при всем при том мне было спокойно и в следственной тюрьме, и потом, в лагере. Я не знаю, как это объяснить, но я всегда знал, что все, что происходит со мной и с моими близкими, — все это страшное горе, — надо воспринимать как должное, как данное. И в этой данности, в этом долженствовании есть благо. Думаю, что для христианского сознания горе, данное как благо, не кажется ни парадоксом, ни поэтическим приемом. Это — основа всему.
Но тут же я хорошо понимал и свою двойственность, свою слабость: моя душа, мое нравственное чувство — это было спокойно, но постоянно возмущено было мое социальное сознание — я постоянно осознавал бессмысленность, тупое отсутствие логики, животный автоматизм в действиях тех, кто меня арестовал, мучил идиотскими вопросами на следствии, устраивал собачью комедию суда — и потом сторожил, открывал и закрывал множество тяжелых замков, обыскивал по четыре раза на дню, запрещал сесть или, наоборот, встать, вталкивал в камеру или выволакивал из камеры. Зачем все это? Ради чего? Неужели все только из-за того, что я позволил себе думать? Ведь никаких иных проступков я не совершил! Я только думал — и мысли свои записывал на бумагу.
И когда я понимал это, признаюсь, успокаивалось и мое социальное сознание; значит, я хорошо думал, значит, я правильно думал, если все эти мерзавцы так встревожены… Но тут же тревога, возмущение возникали вновь: ну, хорошо, дю ведь не из мерзавцев же только состоит мир, — как же могут все эти люди, все эти писатели, артисты, деятели кино, просвещенцы и просветители, все эти блестящие писатели и говоруны — как же могут они говорить и писать, когда я вот здесь сижу за десятью замками, за пятью стенами, охраняемый двумя или тремя десятками мерзавцев, — и все только за то, что я позволил себе думать! Нелепость какая-то…
И вот теперь я никогда не взялся бы за эту книгу, если бы речь шла только о горе, пережитом мной и моими близкими, — это нам дано, и нельзя жаловаться, все надо принимать с благодарностью. Но социальная бессмысленность происшедшего не дает мне спокойно жить. Нельзя казнить человека только за то, что он позволил себе думать и записал свои мысли на бумагу.
Смешно даже говорить об этом — смешно и страшно…
Но в Лефортове страшно не было. В Лефортове скоро стало спокойно и привычно: в двери камеры открывался черный квадрат кормушки, появлялось комсомольское лицо молодого надзирателя, и он указывал ключом или просто пальцем:
— Фамилия?
— Тимофеев.
— Имя, отчество?
— Лев Михайлович.
— На вызов.
На вызов — это на допрос: по металлическим, но ковровой дорожкой застеленным мосткам тюрьмы, по коридорам следственного корпуса, где в окнах простое стекло и можно успеть на ходу увидеть часть сквера, прохожих, детей, играющих в классы, — и в глухой темный коридор, в кабинет следователя.
ПРОТОКОЛ
допроса обвиняемого
Город Москва 16 апреля 1985 г
(Подполковник Губинский допрашивает Тимофеева) Допрос начат в 14 часов 40 минут.
Вопрос: В своем эссе «Последняя надежда выжить. Размышления о советской действительности» вы пишете: «сегодня уверенно можно сказать, что осознание обществом своей оппозиции власти — важнейший социальный и духовный процесс современной России». На основании чего вы так уверенно говорите о якобы «осознании обществом своей оппозиции власти»?
Ответ: Ответа не последовало.
Вопрос: Считаете ли вы себя находящимся в «оппозиции к власти»?
Ответ: Ответа не последовало.
Вопрос: Вам в очередной раз разъясняется, что написанные вами сочинения «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать», «Ловушка», «Последняя надежда выжить. Размышления о советской действительности», содержащие клеветнические измышления, порочащие советский государственный и общественный строй, используются зарубежными центрами идеологической диверсии во враждебной пропаганде против Советского Союза. Намерены ли вы, используя свое право автора, обратиться в редакции журналов и радиостанций, использующих ваши сочинения в указанных враждебных СССР целях, с тем, чтобы предотвратить в дальнейшем их публикации и использование в передачах и тем самым нанесение ущерба нашей стране?
Ответ: Ответ на этот вопрос, как и на всякий другой, возможен только после того, как органы КГБ прекратят преследовать меня в уголовном порядке как автора литературных произведений.
Вопрос: Назовите те литературные произведения, автором которых вы являетесь, и за которые, по вашему мнению, вы необоснованно «преследуетесь в уголовном порядке»?
Ответ: Ответа не последовало.
Вопрос: О том, что ваши сочинения с клеветой на советский общественный и государственный строй используются зарубежными пропагандистскими центрами во враждебных СССР целях, свидетельствует передача радиовещательной станции «Голос Америки» от 8 сентября 1984 года. Вам оглашается выдержка из нее следующего содержания: «В трех последних номерах издающегося в Нью-Йорке журнала „Время и мы", в выпусках с 75 до 77 опубликована последняя большая работа проживающего в Советском Союзе публициста Льва Тимофеева „Последняя надежда выжить. Размышления о советской действительности". В сегодняшнем выпуске программы „Религия в нашей жизни" мы познакомим вас с отрывками из эссе Тимофеева, в которых речь идет о духовной жизни современного советского общества. Другая замечательная работа Льва Тимофеева под названием „Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать" была опубликована в 1980 году в ряде номеров издающегося в Соединенных Штатах квартального журнала „Русское возрождение", а затем вышла отдельным изданием в Нью-Йорке в издательстве „Товарищество зарубежных писателей". Между прочим, „Технология черного рынка" Тимофеева передается в текущих выпусках сельскохозяйственной программы „Голоса Америки". Эссе Тимофеева, опубликованное в журнале „Время и мы", — это размышление о государстве и обществе в Советском Союзе. Главный тезис этой работы — советское общество постоянно сопротивляется навязанной ему мертвящей доктрине». Что вы можете сказать по поводу приведенной вам выдержки из передачи?