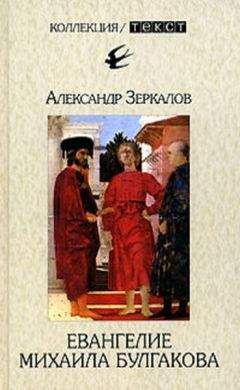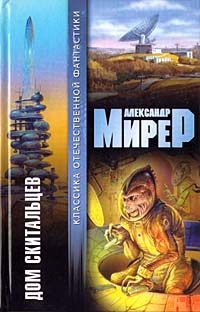В свое время мы отметили еще один значок. Вместо «Боже Мой» сказано «Игемон…» [77], [96]. Разумеется, это можно посчитать запоздалой жалобой, упреком — но и тогда последнее слово Иешуа будет абсолютным аналогом последнего обращения Иисуса к Богу (см. Мф. XXVII, 46; Мк. XV, 34). Там была жалоба к Богу — зачем оставил казнимого, здесь — к игемону… Но штука в том, что ни Бог — по Евангелию, ни игемон — по Мастеру — казнимых не оставляли. По меркам крестной казни Иисус скончался слишком быстро, чем евангельский Пилат был очень удивлен [78]. По-видимому, Бог сократил муки Сына, послав ему смерть на седьмом часу казни. Игемон сократил муки Иешуа раньше — в пятом часу… [100].
К сцене казни, закончившейся словом «Игемон», стоит вернуться, ибо в ней содержится не только сюжетная параллель с Евангелием — запоздалая, ханжеская помощь страдальцу, последнее звено цепи зла. Знак равенства между игемоном и Богом ставится в этой сцене и логически, и поэтически.
Левий Матвей прячется в расщелине Лысой горы и молит Бога послать Иешуа смерть. Но истекает четвертый час казни, а смерти все нет. Левий приходит в ярость и проклинает Бога: «Я ошибался!.. Ты бог зла!.. Ты не всемогущий бог. Ты черный бог. Проклинаю тебя, бог разбойников, их покровитель и душа!» (с. 595).
На семантической поверхности он проклинает Яхве — или Бога Отца — и совершенно точно означает его роль в истории Иисуса. Но последующее действие и поэтика сцены обращают проклятия Левия к настоящему «черному богу» — игемону. Богохульства Левия как бы вызывают к жизни два одновременных события. С моря поднимается грозовая туча, а от Ершалаима прибывает посланец прокуратора с приказом о смерти-помиловании. Тучу Левий почти не замечает — она лишь мешает ему смотреть на вестника, при виде которого «от предчувствия радостного конца похолодело сердце бывшего сборщика» (с. 596).
Туча — ассоциированная с евангельской тьмой — придает явлению «фигурки в багряной военной хламиде» нечто трансцендентное, делает его почти божественным актом. Читая эту сцену, отделенную 13 главами «московского» текста от главы-завязки, уже трудно припомнить, что Иешуа предсказал грозу еще утром, когда он смерти своей никак не предугадывал (см. с. 441), то есть символического значения туча не имеет. Посланец игемона появляется в пыльном вихре, и палач торжественно шепчет: «Славь великодушного игемона!» — и тихонько колет Иешуа в сердце… «Тот дрогнул, шепнул: — Игемон…» (с. 598). Торжественная, богослужебная тихость легионного палача, его «славь игемона», так напоминающее «славь Бога» — финал трансцендентного действа, начатого неистовой молитвой Левия: «Бог! За что гневаешься на него? Пошли ему смерть» (с. 592). Действа, в ходе которого Бог как бы снижается постепенно до игемона, редуцируется с каждым часом казни — и в последнюю секунду все сбегается в точку, в последнее слово-выдох: «Игемон…»
Нет Бога на земле, есть — игемон.
Эта сцена, в сущности, абсолютно самостоятельна от Евангелия. Они связаны лишь в самом внешнем, маскировочном слое. Напоминаю, что в главе «Казнь» заменены противоположными по смыслу все реквизитные детали Четырехкнижия, кроме тьмы-тучи. А она — заранее дезавуирована. Она придает сцене казни торжественное, литургическое звучание — но вместе с тихим палачом и со странным, церковноподобным торжественным словом «игемон…».
Поскольку мы занялись разбором поэтики, рассмотрим с этой точки зрения официальный титул римского наместника.
Булгаков мог выбрать следующие слова: «правитель» — русское; «прокуратор» — латинское, по вторичным источникам; «претор» — также латинское, по Флавию и Тациту; а выбрал греческое слово. (Русские синонимы — «правитель» или «вожак». Пилат и другие прокураторы так называются — но не титулуются — в греческом и церковнославянском текстах Нового Завета.) Может быть, оно выбрано потому, что официальным языком восточных провинций был греческий? Можем быть. Но вот в разговоре Пилата с Каифой — который ведется по-гречески, это особо оговорено, — первого называют то латинским словом «прокуратор», то греческим «игемон», а второй везде именуется русским словом — «первосвященник» — переводом греческого слова «архиерей», которое применялось к еврейским начальникам Храма в церковнославянских текстах. Следовательно, дело не в исторической достоверности. (Например, Каифу в другом месте именуют английским оборотом: «президент Синедриона»)… Выбор, очевидно, обусловливается поэтикой. Каифу было неуместно именовать титулом, который применяется к князьям православной церкви; Пилат же намеренно снабжен званием, вызывающим у современного читателя церковные аналогии: «игемон — игумен…» Возможно, оно и подбиралось затем, чтобы вложить его в уста Иешуа, как последнее слово? Снова — может быть… Во всяком случае, оно наилучшим образом замыкает сцену, в которой «свирепое чудовище» утверждается земным заместителем Бога Отца.
И утверждение происходит устами заместителя Бога Сына — об этом не лишне вспомнить еще раз. Последнее слово Иешуа-Иисуса есть кульминация внутри кульминационной сцены, по внешности сцены евангельской, по сути — еретической, направленной на реформу христианской этики. И слово-кульминация взято из церковнославянского текста Нового Завета, из книги, наиболее почитаемой в православии!
Совершим поворот от поэтики. Слово «игемон» достаточно приметно, чтобы служить значком, меткой — подобно «Га-Ноцри» и «королю-звездочету». В каком русском тексте это греческое слово встречается?
Поиск привел меня снова к русскому переводу Талмуда, к цитированному уже трактату «Тосефта Хуллин». Вот отрывок, отвечающий заданному условию: «Случай с р. Элиэзером, который был схвачен по обвинению в минействе, и его возвели на подмостки. Ему сказал игемон: такой старик, как ты, занимается такими вещами! Он ответил ему: я принимаю как должное решение Судьи. Игемон подумал, что р. Элиэзер разумеет его, между тем, как р. Элиэзер разумел Отца своего, что на небесах. Он ответил ему: «Так как ты признал правильность моего суда над тобою, то я тебе верю: возможно ли, чтобы седина заблуждалась такими вещами. Освобождение! Ты свободен!»[27]. (Рабби Элиэзер — еврейский законовед, праведник, на которого Талмуд часто ссылается. Минейство — в общем смысле «ересь», но чаще — христианская ересь.)
На сей раз я, разумеется, не могу утверждать, что данный фрагмент был Булгакову знаком. Но в этой талмудической агаде есть три важнейших, стержневых элемента булгаковского рассказа: несомненно нелепое обвинение; оправдание не по материалам дела, а по пристрастию судьи; путаница между судьей и отцом небесным. Это неожиданное, буффонадное сочетание нелепиц, ибо все здесь — перевертыш, от обвинения знаменитого праведника, знатока закона, в ереси, до его безосновательного оправдания. Но более всего гротескна параллель между судьей-язычником и Богом. Это — еретический обыгрыш генеральной талмудической темы божественного суда на земле.
Титулование «игемон» оказывается, таким образом, разлитой и повторяемой меткой. Она отсылает нас к истокам трагической буффонады, созданной Булгаковым. (Не лишено интереса попутное наблюдение: этот фрагмент Тосефты можно истолковать как пародийный пересказ евангельского суда над Иисусом, тем более что в конце притчи старец признает себя виновным в ереси «Иисуса сына Пантеры»…)
Итак, если предположить, что Булгаков знал приведенный текст, то Талмуд окажется сюжетным источником почти евангельского ранга. У меня есть сильнейший соблазн думать, что Булгаков знал агаду о рабби Элиэзере. Ведь его теологическая реформа — отрыв реалии от власти Бога — направлена против иудейской составляющей в христианской религии и этике. Иудаизм сообщил глобальной религии Христа дух племенной узости, земного императива. Иудейский бог Яхве, ставший после христианской реформы Богом Отцом, олицетворяет идею этики, жестко и однозначно заданной верховным существом; этики, записанной в Торе и развернуто прокомментированной Талмудом. Впрочем, об этом мы уже говорили, а дальше разберем тему еще подробней. Я хотел лишь заметить, что иронически-острый ум Булгакова должен был оценить еретическую буффонаду авторов Тосефты, их тончайшую насмешку над основополагающей, как сейчас принято говорить, идеей. А Талмуд он, как представляется, знал хорошо.
Этим соображением мы закончим анализ сюжетного перевертыша: римский прокуратор в роли провидения; «затейщик низостей», совершивший очередное злодеяние — но посеявший зерно Добра. Мы убедились, что в сюжете игемон достаточно полно повторяет действия евангельского Бога.
Двинемся теперь дальше и убедимся, что игемону приданы не только действия, но и характериологические черты, которые приписываются Богу каноническими книгами.