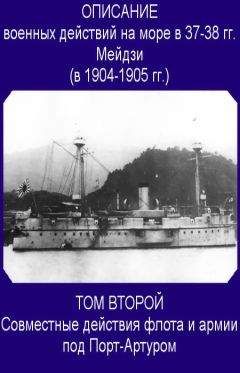Примечательное дополнение, а? Догадывался старый партизан, что чего лучше. Незадолго до фронта, поздней осенью 1942-го, отец на неделю заехал к нам в деревню. Он прожил у нас, теперь уже год как съехавшихся со всех концов в одно место, ровно неделю. Накануне его возвращения в Москву ходили со всеми прощаться. Перед сельским советом стояла толпа. Это провожали на фронт подросших уже молодых парней. И раздавался душераздирающий вой воплениц.
Мать громко изрекла: «Женщины! Зачем вы плачете? Посмотрите: вот мой муж. Ему завтра тоже на фронт. Я же не плачу!»
Но отец оборвал её: «Дай людям вволю поплакать». Мать же любила «выступать», и она была несколько уязвлена.
* * *
Пришло и то завтра, о котором мать говорила людям. Мы снова стояли у того же сельского совета, на краю деревни. Отец сказал: «Ну, до свидания, Женя. А ты, Серёжа, подрастай, и вместе с Алёхой приезжайте ко мне на фронт».
Родители потянулись друг к другу; но внезапно отец вроде поёжился и обернулся. Его что-то сбило с настроения; и действительно: из окна сельского совета на нас смотрели чьи-то острые-острые, пронзительные глаза.
Это был председатель совета Афанасий Рыбин. Он только что вернулся с войны, где горел в танке. Лицо его стало красное, как вечно раскалённая сковорода; и ни волос, ни бровей, ни ресниц.
Отец отвёл глаза; потом он только кратко повторил своё «до свиданья»; деловито пожал матери и мне руку и ушёл пешком в районный центр.
Пусть кто как хочет догадывается о безмолвной встрече взглядами между ними, тремя взрослыми. Но больше отец к нам никогда не вернулся: лежит в братской могиле под Мозырем; могила в заражённой и выселенной чернобыльской зоне.
И вот недавно мне сообщила старшая сестра такую вещь. Не кто-нибудь, а сама наша мать потребовала от мужа, чтобы он ушёл из Москвы на фронт. Поэтому я и разволновался, прочитав частушку в журнале «Косутёру». Стоит читать этот журнал: он знакомит японцев с детским вопросом в России, с детскими книгами и с русским народным искусством. Издаётся в Осаке; и никаких в нём территориальных претензий.
* * *
Кто-то с рождения жил в Москве, а мы когда-то слыхали о ней лишь издалека. Запомнились и стихи о Москве: их писала сестра в тетрадке. Я подсмотрел это на столе, к которому отец, кстати, во время побывки подбил снизу дорогие мне кубики с картинками, на что я сильно обиделся:
Ползёт, подползает кровавая птица
К Москве-столице.
Но мы не пустим кровавую птицу
К Москве-столице.
И поскольку не пустили, то нам, даже детям, было не безразлично, что это произошло с участием всё тех же сибиряков. А то бы – то есть не будь вообще Победы – я бы, вдуматься, никогда не побывал в Японии, не жил там и не любил бы эту страну; не читал бы их журналов и тем более не печатался бы там. Дед одной из моих тамошних клиенток, то есть старый японец, бывал под американскими бомбами и очень любил – ну, потом – советскую песню «Эх, дороги». Тоже любопытно: это мой привет сыну войны и ученику Льва Ошанина, поэту Саше Боброву.
* * *
Но мы о матери, о матерях! Как донская казачка мать прощать не умела. Помните лихую Дарью в «Тихом Доне», в сердцах – по убитому мужу – схватившуюся за винтовку? Ну, или – как «ружьё заряжает джигит, а дева ему говорит»? И однажды, в 1968 году в декабре, мать сказала то, что прозвучало вразрез с общесоветским настроем: «Не пой мне: «Ты меня ждёшь и у детской кроватки не спишь». Да и Симонов вот написал: «Жди меня, и я вернусь». Так ты что думаешь, Сергей? Ты думаешь что: ЭТО Я-ТО НЕ ЖДАЛА? Места себе не нахожу, когда слышу такое ».
* * *
Что ж, вдова[?] И как вот ведь получаются сразу трое русских вдов:
Жили три друга-товарища
В маленьком городе Н.
Были три друга-товарища
Взяты фашистами в плен.
……………………………
Стали допрашивать третьего,
Третий язык развязал:
«Не о чем нам разговаривать», –
Он перед смертью сказал.
Три жены овдовели, три матери остались каждая без сына. Это мы учили наизусть в детстве, в школе.
И лишь поздно, поздно стало ясно, что именно мама вкладывала в своё чтение по Некрасову, из «Кому на Руси жить хорошо»: заклинание вдовы, похоронившей и родителей.
На кого меня покинули?
Что без вас я выношу!
День как травка пристилаюся,
Ночь слезами обливаюся –
Я потупленную голову,
Сердце гневное ношу.
Как-то я посетовал, насколько тяжело переживать и терпеть всё такое, причём из десятилетия в десятилетие, Урану Абрамовичу Гуральнику и Георгию Иосифовичу Ломидзе, фронтовикам. Рассказал, как мать однажды, в 1947 году, чуть не задушила огромного ростом пленного немца, который простодушно, хотя и с бубновым тузом на спине, ходил по нашим домам с сумой, за хлебом Христа ради (дело было не в Москве.)
Ну а хлеб-то давали; помню, что давали. Ну, мать вот и бросилась душить того немца, когда он вошёл, гигант, к нам в сени. Но Гуральник, caм который потерял в войну всю семью в Виннице, несколько глуховато и всё же внятно сказал: «Ну, да ты же её понимаешь». А Георгий Иосифович Ломидзе, слушавший нашу беседу, с чего-то вдруг обнял нас обоих.
За что меня-то? Слишком много было бы взять на себя утверждением, будто ещё и я всё понимаю. Ибо если я тоже, когда в 1979 году попал-таки на германскую землю, – если я там собирался первого же попавшегося немца, пускай и из демократического Берлина, именно задушить, то это было безотчётно и, конечно, вне всяких пониманий.
* * *
А мать лишь один раз, я помню, вдруг спела что-то бойкое и почти залихватское: «Лейся, песнь моя-а, комсомольская-а! Берегись, фашисты, Седьмого ноября!» А что уж у неё общего с комсомолом, у дочери офицера-белоказака? Не она ли содрогалась в 1919 году, видя, как потаптывали донские святыни, от икон до знамён и монументов, в красном Новочеркасске, где только что умер её белый отец?
Хотя что: она, пришло время, и в ВКП(б) вступила – правда, уже после войны. О предыстории же этого говорила она следующее: «Только «Тихий Дон» вместе с Конституцией 1936 года сделали из меня, лишенки, снова человека».
Вот это понимаю, понимаю. Сам бывал лишенцем. Как и то, что именно она-то всю свою жизнь – ну, с 1914 или с 1920 года – и была именно вопленицей, только немотствующей. Почему же немотствующей? Ну, хотела как мужчины: держать строй. И не она ли сказала отцу в деревне, когда тот прибивал к сестриному столику мои кубики: «Вот сюда забивай гвоздь, в мой бицепс: не пикну»? (И засучила рукав над своим каменно выпученным мускулом.) Журналистов – уже после войны – гнала; на сходки челюскинцев, ежегодно в феврале в ресторан «Прага», не ходила. Чуралась слушать тех, кто хотел вспоминать о её муже с улыбкой; а восхищаться – тем более не они имели право.
Ещё хорошо помню, как для неё был тяжёл «Василий Тёркин». Она говорила: «Не верь этому, Сергей». И вот опять: как тут быть, простите, литературоведу советской школы? Да что советскость: возьмите геморроидально, то есть до крайности, антибольшевиствующего Бунина. Его ведь заставлял упиваться вовсе не «Тихий Дон», который вполне уже был налицо, а как раз поэма Твардовского. Однако и кристально честный Михаил Петрович Лобанов, искалеченный в 1943 году фронтовик, внушал мне то же, то же самое, что и мать.
Суровая тяжесть их наставлений управляет и мною: то есть о Тёркине – молчать. По крайней мере уважать суждения и чувства тех, к кому война повернулась не в режиме созерцания издалека и совсем не тёркинской отчётно-партийной стороной.
* * *
Конечно, доставшееся кому-то лично несоизмеримо со всеобщим. Филология дальнего следования – нелёгкое дело. И разве не помеха чувству дистанции, когда ощущаешь, что древнее прощание Гектора с Андромахой – оно было не под три тыщи лет назад, а чуть ли не на твоих глазах? Или то, что ты хоть и не чеченец, но ты тоже уверен, что где-то там, в краю родных бурных рек и вечно снежных гор, в самую пору жестоких битв состоялось что-то самое значительное в твоей жизни? Ну не на Кавказе; но и не в Москве, а в Сибири; а всё равно: видеть отца хоть в Сибири, но хоть раз живым – такое на улице не валяется. И туда надо вернуться, бросив разные там «монастыри». Остроту чувства к далёкому и родному не снимают никакие ощущения нынешних упорядоченностей и устойчивостей развития.
Оно никуда не исчезло – то, что меж высоких хлебов затерялося: то есть воспетое ещё когда небогатое наше село. Его-то почти уже нету – ну, в силу ряда причин. А всё равно видишь как вживую ветерана-фронтовика Ивана Африкановича или, с ним чуть ли не рядом, обожжённого танкиста Рыбина, хотя и они уже давным-давно, как посчитать, скончались. Веришь и в сны Николая Рубцова: