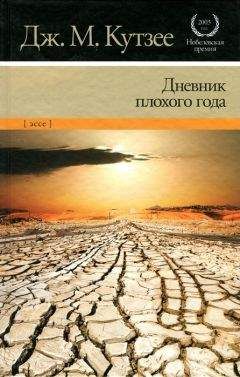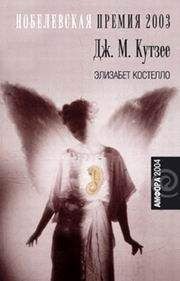сомнительной? Возможно, так происходит потому, что, если уж на то пошло, все языки — иностранные, чуждые нашей животной сущности. Однако в известном смысле английский язык — не абсолютно моя стихия; ощущение это слишком смутно, чтобы объяснить его словами. Просто так случилось, что я в некоторой степени овладел ресурсами именно английского языка.
Мой случай определенно не уникален. Например, среди индийцев — представителей среднего класса, немало таких, кто получил образование на английском языке, кто изъясняется по-английски на работе и дома (порой расцвечивая свою речь местными идиомами), кто плохо знает другие языки; однако, когда эти люди слушают собственную речь или читают ими написанное, их не оставляет неприятное ощущение фальши происходящего.
Помню, вы как-то сказали, что не станете помещать в книгу свои сны, потому что сны не считаются суждениями, тем более приятно видеть среди ваших гибких суждений сон, тот самый, который вы мне давным-давно рассказали, о вас и Эвридике. Конечно, я теперь думаю, нет ли в вашем сне скрытого призыва о помощи. Жалко, что вы такой одинокий. У каждого человека кто - то должен быть, на кого можно положиться.
за права человека и тому подобное, так вы себя позиционируете, но вот какой вопрос я себе задаю: Если он реально верит в эти самые права человека, что же он за них на деле не борется? Что у него в послужном списке? И вот каков ответ, согласно моим изысканиям: Его послужной список совсем не так уж крут. Если на то пошло, он пуст.
Вчера в одной передаче Антье Крог[47] читала свои стихи в переводе на английский. Если не ошибаюсь, это было ее первое выступление перед австралийской публикой. Поэзия Антье Крог отнюдь не камерная — Крог пишет об исторических событиях в Южной Африке, пришедшихся на годы ее жизни. Поэтическое мастерство соответствует поставленной задаче и не останавливается в развитии. Абсолютная искренность, подкрепленная острым женским умом, и бездонный колодец горького опыта. В ответ на ужасные зверства, которым она явилась свидетельницей, на боль и отчаяние, ими вызванные, Крог обращается к теме детства, будущего людей, к неистребимой способности возрождаться из пепла.
В Австралии ни один автор не сравнится с Антье Крог по накалу чувств. Мне кажется, Антье Крог — явление почти русское. И в Южной Африке, и в России люди порой ведут жалкое существование; но как же восстают против него гордые души!
Алан говорил, что вы сентиментальный. Не понимаю, почему. Сентиментальный социалист, вот как он вас называл. Разумеется, в уничижительном смысле. Я никогда всерьез не слушала Алановы проповеди, если они вас касались. Он думал, вы на меня слишком влияете, потому-то вас и невзлюбил. Хотя для вас, конечно, это не новость.
Вот я и спросил себя: Чего он на самом деле добивается этой своей книжкой? Прочтите эти страницы, говорили вы моей девушке (моей девушке, а не вашей), с тоской заглядывая ей в глаза, и скажите, что о них думаете — ну и какой тут напрашивается вывод? Хотите знать, к какому выводу пришел я?
16. О том, каково быть моделью фотографа
В книге Хавьера Мариаса «Жизнеописания»[48] есть эссе о фотографиях писателей. Среди репродукций фотопортретов имеется фото Сэмюеля Беккета — Беккет сидит в углу пустой комнаты. Вид у него настороженный; вот и Мариас называет взгляд Беккета «затравленным». Вопрос: чем или кем затравлен, загнан Беккет? Наиболее очевидный ответ: Беккет загнан фотографом. Неужели Беккет действительно по доброй воле решил усесться в углу, в точке пересечения трех пространственных осей, и устремить взгляд снизу вверх, или это всё-таки фотограф его убедил? В такой позе, под десятью, или двадцатью, а то и тридцатью вспышками фотоаппарата, да еще когда над тобой нависает некто, трудно не чувствовать себя затравленным.
Известно, что фотографы приступают к фотосессии, уже имея предубеждения, зачастую из разряда клише, о том, что за человек объект съемки, и стараются подтвердить свои клише в снимках, которые они, в соответствии с идиомой, принятой в английском языке, берут, а не делают. Фотографы не только придают объектам съемки позы, диктуемые клише, но и, вернувшись в студию, выбирают из снимков максимально приближенные к клише. Вот мы и пришли к парадоксу: чем больше времени фотограф уделяет достоверности, тем меньше шансов, что он отдаст ей должное.
Должна сказать, когда вы впервые назвали себя анархистом, я изменила свое о них мнение. Я думала, анархисты носят черное и пытаются взорвать здание парламента. Вы, похоже, анархист особого рода, очень тихий и культурный.
А пришел я к следующему выводу: вы жаждете добиться моей прелестной девушки, но боитесь сделать первый шаг — вдруг заработаете вполне заслуженную пощечину? Получается, вы мою Аню окучивали особо изощренным способом. С лица я, может, старый и мерзкий, внушали вы ей (не говоря уже о вашем отвратном запахе), но по сути я всё еще мужчина. Я прав? Аня, я прав?
Если бы меня заставили навесить ярлык на собственную разновидность политической мысли, я бы назвал ее пессимистическим анархическим квиетизмом, или анархическим квиетическим пессимизмом, или пессимистическим квиетическим анархизмом: анархизмом — поскольку опыт подсказывает мне, что единственный недостаток политики — власть; квиетизмом — поскольку желание приступить к изменению мира, желание, зараженное жаждой власти, внушает мне опасения; а пессимизмом — поскольку я сомневаюсь, что настоящее положение вещей можно изменить на фундаментальном уровне. (Пессимизм такого рода — это двоюродный или даже родной брат веры в первородный грех, то есть убеждения в несовершенстве человечества.)
Но разве меня вообще можно квалифицировать как мыслителя, как человека, у которого имеется нечто, правильно называемое мыслями, о политике или о чем бы то ни было? Абстракции мне всегда туго давались, абстрактное мышление — не
комилась с вами именно в тот период. Если бы не вы, я, может, до сих пор жила бы с Аланом; но вы на меня не повлияли. Я была сама собой до встречи с вами, я и сейчас не изменилась, нисколечко.
Я поднялась. Алан, пора домой, сказала я. Спасибо, мистер К., за приглашение на ваше торжество. Простите, что мы его испортили, мы не хотели, не принимайте близко к сердцу, всё пройдет, Алан просто слегка перебрал.
моя стихия. Хотя я всю жизнь занимаюсь умственной деятельностью, меня посетила всего одна мысль, которую можно счесть абстрактной — да и то когда мне было уже за пятьдесят: мне вдруг пришло в голову, что определенные математические идеи могли бы способствовать внесению ясности в теорию морали. Ведь теория морали никогда толком не представляла, что делать с величиной, с числами. Например, действительно ли убийство двух человек хуже, чем убийство одного человека? И если да, то насколько хуже? В два раза? Или всё-таки не в два, а, допустим, в полтора? Действительно ли кража миллиона долларов хуже, чем кража одного доллара? А если этот один доллар — вдовья лепта?
Вопросы такого рода — далеко не схоластические. Они должны ежедневно занимать умы судей, когда те размышляют, какой наложить штраф и какой назначить срок заключения.
Мысль, меня посетившая, была достаточно проста, хотя словесное ее изложение может показаться громоздким. В математике вполне упорядоченное множество — это ряд элементов, в котором каждый элемент должен находиться либо слева, либо справа от каждого другого элемента. Поскольку числа связаны друг с другом, те, что находятся слева, можно толковать как означающие менее чем, те же, что находятся справа — как означающие более чем. Числа (целые числа), положительные или отрицательные, являются примером вполне упорядоченного множества.
Я бы сказала, вы мне в некотором смысле открыли глаза. Вы мне показали, что можно жить иначе, можно иметь свои соображения, ясно их излагать, и так далее. Конечно, чтобы таким путем добиться признания, нужен талант. У меня бы не получилось. Но, может, в другой жизни, если бы разница в возрасте у нас была
более приемлемая, мы бы с вами зажили вместе, и я бы стала для вас источником вдохновения. А что, удобно — всегда под боком. Как вам такая перспектива? Вы бы сидели за столом и писали, а я бы заботилась обо всем остальном.
А как же вторая часть, сказал Алан. Сядь, дорогая, я еще не изложил Хуану вторую часть нашего вердикта.
Во множестве, упорядоченном лишь частично, условие, что каждый данный элемент должен находиться либо справа, либо слева от каждого другого данного элемента, не имеет силы.