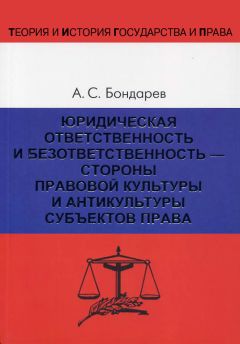Ознакомительная версия.
Внимание к проблематике нечеловеческого со стороны тех, кого Поль Рикер остроумно назвал «учителями подозрительности» (и примкнувшего к ним Мишеля Фуко), вовсе не было продиктовано специфическим интересом к биологическому («этология и зоопсихология»), инфернальному («демонология и тератология») или инфернально-биологическому («вирусология и молекулярная биология»). Расширение границ нечеловеческого было, в сущности, расширением плацдарма экспансии человеческого.
Любые новые измерения нечеловеческого оказывались при этом новыми измерениями присваивающей практической антропологии. Одновременно разрасталось и производство человеческого, которое преобразовывало нечеловеческое в полезный, высококалорийный продукт. Расширение этого производства вело к достаточно частым и разнообразным по последствиям кризисам перепроизводства гуманизма. Эксцессы расизма, нацизма или колониализма также были связаны с этим перепроизводством человеческого на антропологическую единицу, обитающую в пределах определенной нации– общества – цивилизации.
Общий кризис перепроизводства человеческого на современном Западе выражается в гипертрофии права, которая выражается в культе прав человека, играющем роль этики и онтологии современного мира.
При этом человек по-прежнему выступает мерой всех вещей. Однако чтобы подтверждать этот статус, человеку необходимо постоянно проходить тест на содержание в нем достаточного количества человеческого. Опыт великих трагедий XX века показывает, что количество человеческого в человеке постоянно меняется, иногда скатываясь к нулевой отметке. Но еще важнее изменения качества «гуманитарного субстрата», определение которого служит точкой отсчета для любых количественных колебаний. И здесь проблема справедливости проявляется максимально полно.
С одной стороны, человек в качестве меры любой вещи представляет собой антропологическую инстанцию справедливости, служит ее живым воплощением. С другой стороны, то, что характеристики абстрактного «человека вообще» относятся к конкретному человеческому существу примерно так же, как могут относиться к нему черты выставленного в магазинной витрине манекена. Беря на себя миссию меры вещей, человек неизменно оказывается перед вызовом утраты человеческого. Более того, пытаясь устанавливать справедливость, человеческое существо постоянно рискует оказаться несуществующим. В итоге и человеческое в человеке, и само бытие оказываются предметом распределения, зависящим от избрания распределительной системы или сценария справедливости.
Это значит, что не что иное, как социальность, выступает определяющим фактором антропологических и экзистенциальных характеристик человеческой жизни. Общественная организация связует между собой антропологию и экзистенцию, атрибутику человечности и перипетии биографии, личностные качества и повороты судьбы. По аналогии с термином из арсенала политической науки назовем подобный аспект общественной организации режимом социальности.
В Новое время сложилось три режима социальности, которые обозначаются категориями, известными по крайней мере со времен Великой французской революции. Речь идет о равенстве, свободе и братстве. Система равенства присуща обществам права, система свободы – обществам игры, наконец, система братства находила наибольшее соответствие в коммунитаристских социалистических обществах.
В каждой из систем доминирует особый сценарий справедливости, однако он никогда не реализуется отдельно от всех остальных сценариев и не существует в абсолютно «чистом» виде.
Право, или сценарий равенства
Сегодня вполне «в духе времени» проблема «нечеловеческого в человеке» (в том числе и проблема утраты им прежних нравственных качеств) обозначается как затруднение юридического свойства. Речь, однако, идет не только о том, чтобы «реабилитировать» человеческое или заново «осудить» его. Само право предстает теперь как предпосылка смешения разнородных представлений о человеческом в человеке.
Критика права принимает при этом две формы. С одной стороны, может быть объявлено возвращение к универсальному человеку, а оно (если «все по-честному») предполагает запрет на любые формы толерантности или снисходительности (так полагает Ален Бадью). С другой – может констатироваться, что «универсальный человек» и есть главный монстр новоеропейской цивилизации всеемешения (так думает Бруно Латур).[36] И никакая толерантность (снисходительность) здесь неуместна – в силу, впрочем, уже совсем других оснований.
Абсолютизация зла. Средства массовой информации распространили некоторое время назад[37] сообщение (которое сам язык подсказывает назвать «тревожным»): «16 января в 14.05 в УФСБ России поступила тревожная телефонограмма № 8-5-145. В ней сообщалось, что 17 января 2007 года в 12 часов шесть членов группировки „Аль-Каида“ собираются совершить теракт в Московском метрополитене. Конкретная станция, где может случиться трагедия, в телефонограмме не указывалась. Все столичные спецслужбы вмиг были подняты по тревоге. На каждой станции метро появились усиленные наряды милиции. Кинологи с натренированными на поиск взрывчатки собаками прочесывали все переходы и залы метрополитена… Но москвичи не знали, насколько серьезная опасность им угрожает».
О чем точно были осведомлены москвичи, так это о том, что их ожидает встреча со Злом в наиболее беспримесной его форме. Будучи образцовым с точки зрения своей мифологизации явлением, террористическое зло обладает всеми характеристиками фантома.
Речь идет о фантоме, чье главное достояние составляет невиданная, совершенно необычайная способность к материализации. Когда посланцы сверхъестественных сил наведываются к вам в гости, когда они буквально из ничего возникают на ваших глазах, у вас больше нет иллюзий по их поводу. А значит, нет и иллюзий по поводу того, что зло представляет собой «всего лишь мираж».
Соответственно, помимо очевидного деструктивного содержания, террористическая практика несет в себе еще и элементы терапии. Для любого из нас терроризм выступает терапевтической программой возвращения к реальности.
В то же время, находясь повсюду и нигде, терроризм заразил собой повседневность, превратив ее в своего двойника. Сколько бы ни случалось терактов, к какому бы количеству жертв они ни вели, ужас терроризма вовсе не в этом. Ужас терроризма состоит в том, что любая самая разрушительная вылазка оказывается лишь продолжением террора повседневности, к которому мы давно относимся как к «привычному делу».
Взрывая повседневный распорядок жизни обывателя, террористическим оказывается любое действие, которое возвещает о различии между фантазией и реальностью. Вместе с тем террористическим является и действие, стирающее эту грань. В случае с терроризмом повседневности мы имеем дело именно со второй разновидностью терроризма.
Террористическое действие – это, помимо всего прочего, еще и практика абсолютизации зла.
Однако зло абсолютизируется лишь при одном условии: когда исчезает любое его отличие от добра. Последнее ведет, в свою очередь, к устранению границ между Воображаемым и Реальным. Добро и зло наделяются одинаковым статусом воображаемых объектов, превращаются в явления, пригодные лишь для того, чтобы стать предметом грез. Страх разрывает эту круговую поруку и сам по себе обращается в образцовое террористическое действие.
Терроризм и страх открывают нам, что реальность обозначает себя, когда мы расстаемся с представлениями об иллюзорности зла. Однако мы ничего не поймем в зле, если забудем о том, что оно связано с неконтролируемой материализацией иллюзий, с производством и перепроизводством их материальных воплощений.
Мы не замечаем присутствия зла в контексте нашего повседневного существования, поскольку зло вовсе не является чем-то трансцендентным по отношению к повседневности.
Не черное, но серое – вот цвет, в который окрашено зло сегодня. В тот же цвет окрашена и повседневность. Распознать серое на сером сложнее всего. Возможно, вопреки Гегелю, это и есть самая актуальная задача философии на сегодняшний день.
Терроризм повседневности. Хотим мы это признать или нет, мы живем в демократиях консенсусного типа. Сколько бы нам ни повторяли, что со злом невозможно договориться, это останется блефом, поскольку зло изначально является предметом договоренностей.
Терроризм повседневности состоит в том, что все можно посчитать злом. И одновременно любое зло можно за зло не принять.
С этической точки зрения история современных обществ начинается с появления возможности конвенционального определения негативного. Злом оказывается то, с чем борются. С приходом Нового времени этика приобрела специфическую двойственность, в которой берут начало любые «двойные стандарты». С одной стороны, «этическим» оказывается то понимание блага, в рамках которого благом считается поддержание консенсуса (начинающееся цениться само по себе, независимо от ценностей и целей). С другой стороны, зло превращается в сущность, о характеристиках которой «всегда можно договориться».
Ознакомительная версия.