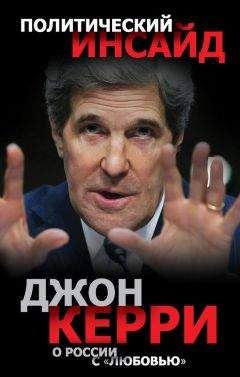Одна из самых значимых записей – о первой любви – исходная для понимания всего творчества Бунина, пронизанного духом утончённого гедонизма. Читатель, обращающий внимание на «молоденькую и недурненькую» гувернантку, пленившую юного поэта, упускает из виду главное: захваченность Бунина космическим Эросом предшествовала его реальной встрече с объектом предполагаемой страсти. Через 53 года он пишет рассказ «Муза» (1938) – тоже о первой любви. Целиком выдуманная героиня этого рассказа, как и невыдуманная гувернантка Эмилия Васильевна, – не более чем призрачные модификации «общего прекрасного женского образа» – архетипа Вечной женственности , культ которой на свой особый лад творил Бунин, продлевая золотой век русской литературы в эпоху торжествующего дионисического безобразия и «массового бесстыдства» (Д. Андреев). Так что мелькающие в тёмных аллеях бунинские красавицы – Антигона, Валерия, Натали, Руся, Таня... – это лики мифопоэтической «половины», без которой мужское бытие остаётся частичным, ущербным, неполноценным. Обратимся к упомянутой дневниковой записи: «Что меня ждёт? – задавал я себе вопрос. Ещё осенью я словно ждал чего-то, кровь бродила во мне, и сердце ныло так сладко, и даже по временам я плакал, сам не зная от чего; но и сквозь слёзы и грусть, навеянную красотой природы или стихами, во мне закипало радостное, светлое чувство молодости, как молодая травка весенней порой. Непременно я полюблю, думал я. В деревне есть, говорят, какая-то гувернантка! Удивительно, отчего меня так к ней влечёт? Может, оттого, что про неё много рассказывала сестра[?]» Перед нами – феноменологически точная фиксация элементарного психического обнаружения жизненного порыва , правда, пока ещё слепого и смутного, интенционально неопределённого. «Сном или, скорее, воспоминанием о каком-то чудесном сне была тогда его беспредметная, бесплотная любовь». Такою была первая Митина любовь в изображении Бунина. Очевидно, подобно толстовскому Мите Оленину Бунин сознавал в себе присутствие «всемогущего бога молодости», имя которого известно издревле – Эрот .
От Платона, чьи диалоги перечитывал не раз, Бунин знал, что первоначально эта космическая энергия, родственная поэтическому вдохновению, выражается в эротическом «устремлении к прекрасным телам», которое на пути восхождения миста к прекрасному самому по себе и обретению андрогинной полноты бытия трансформируется в любовь к прекрасным душам, не совместимую с чувственными экстазами, с «первой мессой пола». Острые, болезненные до безумия переживания тупиковости платоновской дихотомии душа–тело были показаны писателем в повести «Митина любовь». Лишь на первый взгляд эта бунинская вещь может показаться благодатным источником для спекуляций психоанализа, не ведущего к открытию каких-либо новых, одухотворяющих нас смыслов. Внимательное прочтение текста позволяет вскрыть бунинскую философию любви, не имеющую ничего общего с «переносом импульса похоти в космический план» (Даниил Андреев), сублимацией полового инстинкта (И.А. Ильин) или проекциями профанического эроса . Даже сцена Митиного падения с деревенской красавицей Алёнкой ( Афродитой Простонародной ), подменившей на какие-то мгновения лучезарный образ идеализированной им Кати ( Афродиты Урании ), становится эпизодом космической мистерии любви. Вот почему мы не можем согласиться с Иваном Ильиным, с высокомерием ортодокса утверждавшим, что «искусство Бунина по существу своему додуховно». Между прочим, этот тезис опрокидывается бунинскими переводами поэмы «Манфред» и мистерии «Каин». Кроме того, отметим, что духовность в том или ином виде всегда присуща искусству как человеческому мастерству и умению.
Попробуем определить духовное своеобразие бунинского творчества. «Митина любовь» поможет нам сделать это. Любопытно, что даже такой вдумчивый критик Бунина, каким был Иван Ильин, не обратил внимания на мелькнувшее в повести имя – Ницше . Между тем оно – ключевое для понимания бунинского антиплатонизма, нашедшего выражение в описании Митиного «сверхчеловеческого счастья» – под знаком Антареса, ярчайшего красного сверхгиганта в созвездии Скорпиона, символизирующего одного из падших ангелов из свиты Люцифера, проводника тёмных излучений «галактического анти-Космоса» (Д. Андреев). Уточним: бунинскому персонажу открылась лишь перспектива «сверхчеловеческого счастья», связанного с преодолением мучительного дуализма любви – той сущностной двойственности Эрота, о которой писал Платон. Влюблённый, по мысли философа, рано или поздно вынужден сделать выбор между Эротом Афродиты небесной, требующей подавления чувственности, и «Эротом Афродиты пошлой», поощряющей падение человеческой души в стихию тёмного космического психизма. Тот, кто этого выбора не делает, впадает в эротическое помешательство и гибнет от собственной раздвоенности, что и произошло с Митей. Автору повести были хорошо известны состояния разорванного, несчастного сознания . Он и сам не раз оказывался на грани психического срыва в безумие, отвергая как нелепое попрание плоти в платонической любви, так и подавляющую и унижающую личность похоть плоти . Такою, по признанию Бунина, была в 1898 году его «выдуманная влюблённость в Лопатину», сестру философа-лейбницианца Льва Лопатина. В период романтической влюблённости в Катю Лопатину (Афродиту небесную), с которой Бунин, между прочим, побывал и в Новом Иерусалиме (архитектурном символе богочеловеческого счастья), он неожиданно делает предложение 20-летней Анне Цакни (Афродите пошлой), увлёкшись ею по-язычески, сражённый одним движением её бедра. Стареющий несчастный Бунин с новой силой пережил дуализм любви в сложных отношениях с Верой Муромцевой (Афродитой небесной) и Галиной Кузнецовой (Афродитой пошлой), которую как-то раз преследовал с револьвером в припадке ревности.
Именно эта проблематика, связанная с «дуализмом любви», и образует смысловое ядро повести «Митина любовь». Ссылка Бунина на историю «падения» его племянника Николая Пушешникова, как и упоминание Владимиром Набоковым о Мите Шаховском (брате Бунина), будто бы ставшим для писателя прототипом героя повести, ничего не дают нам для понимания её философского содержания. Иное дело Ницше с его необычным толкованием феномена человеческой телесности, поднимающим личность над мучительной дихотомией душа – тело и открывающим для неё горизонт «сверхчеловеческого счастья». Суть этого нетрадиционного толкования – в отказе от характерного для платонизма видения тела как обременяющей бессмертную душу аморфной массы ( грязи ) и соответствующей идеологии умерщвления плоти , от многовекового предубеждения против телесности , изображаемой теперь в совершенно новом свете как объективация воли к мощи , которая хочет не столько «сохранить», сколько превзойти самоё себя. Воля – как оборотная, имматериальная сторона живого тела, его внутренняя «формирующая форма» – и создаёт видимость красоты ( прекрасной индивидуальности ) постольку, поскольку удерживает множество сконцентрированных в человеке сил в некоем равновесии, в гармонии. Вот почему за платоновским «устремлением к прекрасным телам» (как и за фрейдовским бессознательным сексуальным влечением ) скрывается на деле вожделеющая воля , стремление одной воли доминировать над другой. В таком случае и любовь – это не столько «жажда целостности», утоляемая в телесном соприкосновении противоположных полов, сколько рискованное, смертельно опасное столкновение волений, борющихся за «превосходство» друг над другом. При этом каждая из противоборствующих сторон предстаёт для другой в обманчивом и чарующем телесном облике, не являясь чем-то телесным по своей сути и, как правило, сопротивляющейся порабощающему её опредмечиванию, не желающей быть чьей-либо вещью, игрушкой.
Что же представляет собой «Митина любовь» в свете метафизики воли? В начале повести дано описание «последнего счастливого дня Мити»: Катя «в этот день особенно хорошенькая, вся дышала простосердечием и близостью, часто с детской доверчивостью брала Митю под руку и снизу заглядывала в лицо ему, счастливому даже как будто чуть-чуть высокомерно, шагавшему так широко, что она едва поспевала за ним». Вместе с тем Катя, видимо, не желая быть просто вед о мой, невольно «выказывала своё превосходство над ним, и он с болью воспринимал это, как признак её какой-то тайной порочной опытности». Иллюзорное сознание того, что он для неё «лучше всех, единственный», даже в этот его «последний счастливый день в Москве» отравлено ненавистью и ревностью к «артистической богеме», которая отнимала у него Катю, и без того далёкую от того, чтобы предоставить влюблённому в неё Мите абсолютное право на владение, распоряжение и пользование ею. Даже «в тяжком дурмане поцелуев» Катя напоминает ему, что она – не только тело. Он то и дело ощущает её сопротивление, противоволение , нежелание соответствовать его иллюзорному представлению о ней («…Может, я испорченная, но бери меня такую, какая я есть»). Утрата мнимого контроля над женским своеволием переживается Митей как начало катастрофы. Его любовь трансформируется во всепоглощающую, сводящую с ума ревность, в непрерывную м у ку от сознания растущей «внутренней невнимательности Кати к нему», в «острую ненависть» к ней, в «жажду задушить Катю, и прежде всего именно её, а не воображаемого соперника». Так «Митина любовь» превращается в Митину ненависть. Если первую действительно можно истолковать как банальную юношескую реакцию на фантом «прекрасного тела», то вторая уж точно вызвана сбивающей с толку активностью бестелесного «вечно-женственного» начала, как бы мы его ни называли – энтелехией, душой ( Анимой ) или натурой.