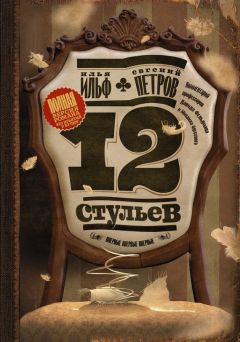Пятое утро начинается станцией Арысь и захватывающим всесторонним жаром. С безумного неба льется не свет, а горячая, вплотную обтекающая тело, лава.
На станциях исчезает даже кислое молоко. Тут продают связки черепаховых щитов, живых черепах и черепашьи яйца.
На всем восточном горизонте лежит белая, железная вата, снеговые отроги Тянь-Шаньского хребта. Впереди всех матовым и молочным светом сияет двурогая вершина Казы-Курта.
Это местный и по счету кажется уже десятый на земле Арарат. Жителями выдается за место остановки Ноева ковчега. Событие маловероятное, хотя еще и теперь киргизский певец, играя на домбре, подробно перечисляет всех животных, спасшихся в Ноевом корыте на вершине Казы-Курта.
Поезд медленно пробирается среди откосов красной глины, беря последний подъем перед Ташкентом.
Белый пар бежит по засохшим склонам. Реомюр в тени показывает 37°.
Это последнее усилие пустыни. Катясь по склонам Дарбазы, по сотне мостиков, пересекая оросительные каналы, поезд влетает в изумительный темно-зеленый и дышащий зеленью ташкентский оазис.
Горизонт застилают темные массивы пирамидальных тополей. Пепельные финиковые деревья блаженно жарятся на солнце. Качаются и шумят высокие стены джугары — тропического проса. Адские пески сразу переходят в ветхозаветный рай.
Проезжают арбы на тонких, величиной с мельничные, колесах. Мелкими шажками бегут крохотные ослики, с невероятным терпением вынося на своей спине многопудовых толстяков в снежных чалмах.
Но поезду нет удержу. Мимо библейских глиняных построек, мимо древесных кущ и рощ поезд продолжает свой путь за Ташкент.
Под утро дорога вступает в ущелье Санзара — единственный проход сквозь горы Нура-Тау, древнеший путь торговцев, полководцев и завоевателей.
Справа на утесе высечены две арабские надписи. Нижнюю из них приводим в сокращенном виде:
«Да ведают проходящие и путешествующие на суше и воде, что в 979 происходило сражение между отрядом тени всевышнего великого хакана Абдулла-хана в 30.000 человек боевого народа и отрядом Дервиш-хана и Баба-хана и прочих сыновей. Сказанного отряда было всего: родичей султанов до 50.000 человек и служащих людей до 40.000 из Туркестана, Ташкента, Ферганы и Дештикипчака. Отряд счастливого обладателя звезд одержал победу. Победив султанов, он из того войска предал стольких смерти, что от убитых в сражении и в плену в течение одного месяца в реке Джизакской на поверхности текла кровь. Да будет это известно».
Хвастливая запись «счастливого обладателя звезд» задела тщеславие русского царя, и над арабской путаной вязью утвердился толстый позолоченный орел и надменная медная доска:
«Николай II 1895 г. повелел: „Быть железной дороге“. 1898 г. исполнено».
В февральскую революцию медная эта глупость была сорвана рабочими руками тех, о которых никто не писал на порфировых скалах, хотя именно они пеклись живыми на прокладке полотна Среднеазиатской дороги.
Поезд гремит по мостику над арыком Сиаб. Пройдя лежащие расколотыми зеркалами затопленные рисовые поля, он шумно подходит к Самарканду, «лику земли», как звали его мусульманские писатели, древнейшему городу Средней Азии, история которого потерялась в тысячелетиях и теперь начинается снова словами:
«Столица Узбекистана».
1925
Трамвая в Самарканде нет. Его заменяет доблестно отслуживший все сроки на афганской границе и только в прошлом году оттуда привезенный паровичок. Вагончики клацают по узкой колее и стремглав несутся в город.
Европейские его улицы затемнены аллеями мачтовых тополей и, утверждают, прекрасно шоссированы. Так ли это, узнать невозможно, потому что они покрыты трехдюймовым пластом пыли.
В этих районах библейский бог создал Адама, первого человека. Поэтому не стоит удивляться тому, что старик лепил его из глины. Здесь нет другого материала.
Весь старый город слеплен из глины.
Узкие улицы зажаты среди высоких глинобитных заборов, дувалов. Дома с плоскими, соломенными, залитыми той же глиной крышами выходят наружу только глухими своими стенами.
Все окна и вся жизнь обращены внутрь, в крошечный рай из десятка виноградных лоз, двух абрикосовых и одного тутового дерева. Улице остается только висящая занавесами пыль и ошеломительное солнце.
В арыках, по которым лениво тащится серая вода, плещутся мальчики-узбеки. Головы у них спереди начисто выбриты. На затылке волосы оставлены и заплетены в дюжину тонких и крепких, как шпагат, косичек.
По двое на некованом коне проезжают великолепные всадники в цветочных халатах и на диво скрученных чалмах.
Передний из них держит в губах розу. У второго роза заткнута за ухо. Они подпоясаны пестрыми ситцевыми плакатами, важны и спокойны.
Ушастый, большеглазый ослик тащит на себе полосатые переметные сумки, гору зеленого клевера и почтенного волхва. В одной руке старца палочка, которой он поколачивает ослика по шее, другой он держится за свою бороду алюминиевого цвета.
Под стенкой проходит женщина в голубоватой парандже — халате, одетом на голову. Лицо ее закрыто черным, страшным покрывалом, густо сплетенным из конского волоса.
Она обута в ичиги, мягкие сапоги без каблуков, и поверх их — в кожаные, остроносые калоши. Мрачная ее фигура исчезает в водовороте пыли, поднятой проезжающей арбой.
Случайное оживление на улице кончилось. Пыльные клубы тихо опускаются наземь. Над головой висит настойчивое и мощное солнце.
Больше ничего.
Это Иерихон и Вифлеем. Это времена Авраама, Исаака и Якова. Этому тысяча лет или две тысячи.
— Среднеазиатские республики, — говорил нам в поезде, довоенно и по-петербургски картавящий молодой человек, — это ветхий завет плюс советская власть и минус электрификация.
О существе советской Азии мы поговорим после. Сначала посмотрим Азию такой, какой она была и наполовину есть еще сейчас.
Улицы старого города пусты, и смотреть там не на что. Они показывают только верхушки своих райских садов и плавающих в пыли девочек с бровями, соединенными в одну толстую, синюю черту, и красными, крашеными ноготками.
Вся наружная жизнь города стянута к базару. Путь туда лежит мимо Гур-Эмир, могилы повелителя.
Железный Хромой, Тимур-ленг, или, как его называют европейцы, Тамерлан, лежит в склепе восьмигранного здания, чудесно украшенного синими и голубыми поливными изразцами.
С ковра на каменном полу подымается узбек, зажигает керосиновую лампочку и ведет в сводчатый холодный подвал.
Тимур, в четырнадцатом веке начавший свою карьеру главарем шайки и завоевавший впоследствии почти всю Азию, лежит под плитой желтоватого мрамора. Она вся иссечена арабским письмом, кроме двух роз, вырезанных против тех мест, где должны быть глаза Тимура.
У обнаженных кирпичных стен покоятся сыновья завоевателя, его внуки, его министры, учитель и сын учителя, весь аппарат власти жестокой военной империи, разлетевшейся в пыль после смерти Железного Хромого.
В верхнем помещении над могилой Тимура лежит темно-зеленая, распиленная надвое (ворами, которые хотели ее украсть) плита из нефрита. Это самый большой монолит нефрита, и сюда он был привезен из Китайского Туркестана.
Базар начинается неподалеку от ив и карагачей, окружающих Гур-Эмир.
Над всем этим местом стоит беспрерывный и нервный рев ослов. Всегда грустные верблюды прокладывают себе дорогу среди толпы. Медлительно тарахтят арбы. С бьющими наверняка, мучительными интонациями в голосе побираются величественные нищие. С круглого медного подноса продают вялые розы.
Весь базар похож на поднос с перепачканными розами.
Чалмы белые, пестрые и огненные мешаются с киргизскими войлочными шляпами, расшитыми черным орнаментом.
Затканные золотыми нитками тюбетейки сверкают на солнце быстро переливающимся светом.
Бухарские еврейки ходят по базару, прикрыв лицо углом надетого на голову яркого зеленого халата. Ислам наложил свой отпечаток даже на эту, обычно туго поддающуюся чужим обрядам расу. Бухарские еврейки покрывала не носят, но при мусульманах лицо закрывают.
К текущим лавой разноцветным толпам подъезжают все новые конные группы. Сегодня базарный день. Тонколицые горные таджики разгружают своих верблюдов, и по боковым уличкам, выбивая копытами непроницаемые пыльные завесы, движутся стада курдючных баранов.
Внезапно воздух наполняется нестерпимой вонью. Это подул ветерок от лавочек, торгующих местным, похожим на головки шрапнелей мылом.
Медные ряды оглушают звонким клепаньем молоточков: чеканят блюда, чайники и кумганы.
Половину базара занимает торговля московскими, пестрейшими ситцами. В лавочках тесно. Кипы мануфактуры стоят корешками, как книги на библиотечных полках. Пробиться в эти ряды почти невозможно. Уж с прохладного рассвета они туго набиты покупателями.
В конце главной базарной улицы расположен Регистан Высоко в небе летают стрижи над тремя прославленными памятниками мусульманской архитекторы. Блещут на солнце изразцовые желтые львы мечети Шир-Дор. Квадратным обжигающим кубом на площади стоит солнечный свет. И выше стрижей, выше голубых минаретов Улуг-Бега мчатся над Самаркандом белокрылые коршуны.