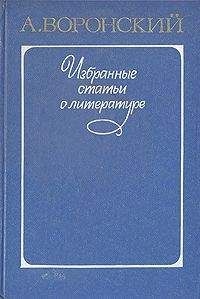Действие произведений искусства на нас не ограничивается нами. Эльстир, кстати сказать, художник вымышленный, благодаря своей невежественной метафоре открыл новые законы перспективы, научил находить прекрасное в окружающем там, где его до него никто не замечал. Почему наивная, бессмысленная манера художника приводит к таким ценным результатам? Рассудок всегда нивелирует, он обобщает, исключая все резко индивидуальное. Это касается прежде всего науки. Понятия, которыми мы располагаем в науке, охватывают лишь общие признаки и свойства, они вызывают в нас схематические представления. Язык науки абстрактен, и иначе быть не может. Исправляя наши восприятия, рассудок лишает их конкретной телесности, своеобразия цветов и красок. Но и в обычной, не научной, рассудочной деятельности мы постоянно понуждаемся отрешаться от самых непосредственных и самобытных ощущений. Искусство, наоборот, ищет проявления общего, типического - только в конкретном, в своеобразном, в неповторимом. Отвлеченное - смерть для искусства. Мир художника, мир телесный, он - весь в запахах, в цветах, в красках, в осязаемом, в звуках. И чем больше удается художнику отдаться силе своих непосредственных восприятий, чем меньше он вносит поправок от общих абстрактных рассудочных категорий, тем конкретней и самобытней он изображает этот мир. В наших общих, обычных, исправленных разумом обра зах мира - часто затемняется, ускользает самое своеобразное, характерное, отличительное и конкретное. Нужен особый глаз, слух художника, чтобы обнаружить эти свойства и качества. В наиболее непосредственных восприятиях они находятся лучше и чаще всего. Вот почему оптическая, слуховая иллюзия, непригодная в практическом обиходе, в искусстве часто приводит к открытиям, к видениям мира, самым свежим и обольстительным по своей конкретности. Бурные пререкания и вопли, которые слышались писателю в грохоте пролетки, способны дать самый выразительный и живой образ.
Могут сказать, что такая манера исключительно субъективна. Она действительно может оказаться таковой, если художник сосредоточит свое внимание на своих впечатлениях, а не на людях, не на вещах, независимых от него. Но она не будет субъективной, когда художник отдается миру, когда он, выражаясь философски, воспроизводит вещь в себе, а не вещь для нас. Отдаваясь потоку своих первоначальных, внерассудочных восприятий, перевоплощаясь, художник словно расплавляет свое «я» в этих восприятиях, но не для того, чтобы убежать от себя, а для того, чтобы обрести мир, как он есть сам по себе, в его наиболее жизненных и прекрасных формах. Эта манера, следовательно, может быть и наиболее объективной. Все зависит от точки зрения художника, от того, фиксирует ли он внимание на своих настроениях, чувствах и мыслях или это внимание сосредоточено на самой действительности.
Итак, наши художественные, эстетические восприятия тем ближе к действительности, чем более непреднамеренно, свободно они схватываются, собираются, хранятся художником. К этому следует прибавить еще одно соображение: художественные ощущения известного ряда тем сильней, чем меньше они исправляются ощущениями другого ряда. Музыкальная пьеса только тогда доставляет нам полное удовлетворение, когда она вытесняет зрительные, обонятельные, осязательные впечатления, словом, все, за исключением слуховых. Картина художника кажется нам тем более совершенной, чем больше она позволяет нам отдаться одним лишь зрительным восприятиям. И в этом дело обстоит для искусства иначе, чем для науки. В научной и практической деятельности мы постоянно и незаметно для себя исправляем одни ощущения другими. В этом смысле мы нормальнее художника. Художник более узок, он часто бывает глух ко всем впечатлениям бытия, за исключением своих, если так можно выразиться, профессиональных впечатлений. Вот почему многие художники являются очень односторонними людьми. Они видят мир, как художники, преимущественно одним органом чувств, тогда как другие чувства у них подавлены, оттеснены на задний план.
Художественное творчество в своих истоках интуитивно. Однако художник не должен пренебрегать интеллектуальным миром. Наоборот, существо и психология художественного творчества, в нашем понимании, требует настоятельно, чтобы художник обладал высоким интеллектуальным уровнем. «Невежественная», «глупая» манера, о которой мы говорили, возможна лишь в том случае, если художник обладает не только тонким эстетическим чутьем, но и развитым интеллектом. Разобраться в своих впечатлениях вообще не легко, а в непосредственных - во сто крат труднее. Художник должен уметь найти, понять, углубить свою основную манеру, свое особое постижение жизни. Без огромной, очень упорной сложной рассудочной деятельности, без знания истории искусства, своих предшественников художник не может как следует постигнуть и свою манеру. Чтобы следовать ей, он должен быть психологом; чтобы найти в своих восприятиях наиболее ценные из них, чтобы очистить их, сгустить, надо быть острым аналитиком. Самая невежественная манера есть в то же время и самая интеллектуальная. Далее, за процессами восприятия и собирания сырого материала следует обработка и оформление его. Здесь интеллектуальный уровень художника сплошь и рядом имеет решающее значение. Сюжетный костяк, оформление материала в слове, в звуках, в красках, в линиях, пропорциях, сокрытие главных приемов - все это требует огромного интеллектуального напряжения. И есть также большой смысл в утверждении, что работа писателя есть в огромной мере тяжелый мышечный труд. Но и помимо этого художник должен быть на уровне политических, нравственных, научных идей своей эпохи. Вечное должно обнаруживать себя во временном, но для этого надо знать и понимать это временное. Нельзя писать романы, поэмы, картины в наши годы, не определив своего отношения к современным революционным битвам. Кто пытается в этом обмануть себя и читателей, будет в конце концов сам обманут. Тут одного чутья, интуиции, инстинкта недостаточно.
Какие выводы из всего сказанного следуют для искусства нашего времени?
Искусство всегда стремилось и стремится возвратить, восстановить, открыть мир прекрасный сам по себе, дать его в наиболее очищенных и непосредственных ощущениях. Эту потребность художник ощущает, может быть, острее других людей потому, что в отличие от них он привыкает видеть природу, людей, как если бы они были нарисованы на картине; он имеет дело преимущественно не с миром как таковым, а с образами, с представлениями мира: его главная работа происходит преимущественно над этим материалом. Но далеко не всегда, не во все эпохи искусство планомерно старалось разрешить эту свою главную задачу раскрытия мира. Своеобразные общественные условия нередко мешали в этом художеству, заставляли его отклоняться от прямых его целей. В частности, наша предреволюционная эпоха была крайне неблагоприятна в этом отношении для искусства. В общественной жизни господствовал крайний индивидуализм и эгоцентризм, он же определял и главные направления в искусстве. Он пользовался всеми узаконенными и неузаконенными преимуществами. К услугам наших сверхиндивидуалистов были издательства, журналы, газеты, меценаты, критики. Их поддерживала философская, эстетическая жизнь Запада. Другое художественное течение, отражавшее настроения восходящих классов, пролетариата и крестьянства, отчасти было загнано в подполье, отчасти находилось в области искусства в стадиях своего первоначального развития. Кроме того, внимание новаторов было сосредоточено на разрешении неотложных политических задач. Лучшая, наиболее общественно здоровая группа художников, не покидавшая реалистической почвы, не пошла далее отвлеченного романтического бунта человека вообще, личности вообще, взятых независимо от общественной среды, дальше защиты абстрактных прав человека и гражданина, неопределенных и несмелых попыток найти выход из индивидуалистических тупиков. Более всего это удалось Горькому; ему удалось во многих своих вещах стать выразителем в искусстве чувств и мыслей пролетарского авангарда, но другая блестящая плеяда русских писателей - Бунин, Куприн, Леонид Андреев - надломилась в этих попытках. Народничество явно вырождалось. Как бы то ни было, господствующим направлением в литературе, в живописи, в музыке был индивидуализм, притом в его крайних формах: культ голого «я», ницшеанство, мистицизм, пессимизм. Этому соответствовали и тогдашние школы: импрессионизм, декадентство, символизм, футуризм и т. д. При всех их особенностях, при всех их достоинствах и недостатках, они имели одно общее свойство: действительность, природу, вещи, людей они подменяли своими впечатлениями о них. Они как бы отрывали эти впечатления от мира, придавали им независимую, самостоятельную ценность, забывая, что они важны, нужны, необходимы лишь настолько, насколько они связуют человека с жизнью, насколько они дают нам мир. Совершив эту подстановку, художники-индивидуалисты лишили себя единственной питательной силы. Они оказались в положении человека, больного галлюцинациями, у которого ощущения лишь самым отдаленным и изуродованным образом напоминают о реальности. Впечатления, образы, представления оказались в некоей пустоте, в темном ничто. Поэтому-то за кругом своих восприятий одни увидели хаос, бездну, катастрофы, другие стали искать «инобытие», «иные миры», бога, третьи провозгласили философский и эстетический релятивизм и эмпиризм (махизм), четвертые объявили верховные права единственного и неповторимого «я», пятые бросили лозунг: carpe diem - лови момент, шестые нашли смелость сказать: «деваться больше - некуда, в мире достоверна лишь смерть». Все это было выражением того, что, утвердив вместо мира свои впечатления, люди потеряли мир. Вместо него они видели только себя, они носились со своими маленькими индивидуалистическими, субъективными мирками, они совершали вращение только вокруг них, на них они сосредоточили свое исключительное внимание, их изображали в своих произведениях. В этом субъективном творчестве писатели достигли величайшей изощренности, утонченности и проникновенности. Можно удивляться и восхищаться чутью, уменью, с какими художники той поры умели уловить, показать, выразить самые утонченные, мимолетные, еле уловимые свои настроения. Достаточно вспомнить А. Блока, Андрея Белого, Ахматову. Успехи здесь несомненны. Но они достигались необыкновенной, дорогой ценой, ценой утери окружающего мира. «В моей душе лежат сокровища, и ключ поручен только мне», - писал Блок. У Андрея Белого в «Котике Летаеве» космос изображен в виде страшного, стародавнего, сокрушительного титана.