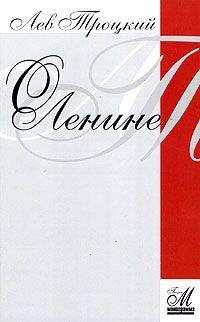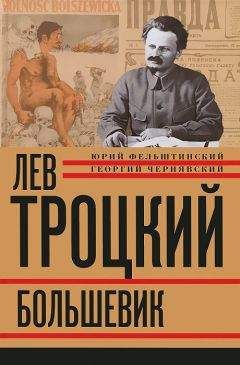Сложные отношения, существовавшие между членами редакции, становились мне доступны лишь постепенно и не без труда. Приехал я в Лондон, как уже сказано, большим провинциалом, и притом во всех смыслах. Не только за границей, но и в Петербурге я до того никогда не бывал. В Москве, как и в Киеве, жил только в пересыльной тюрьме. Литераторов-марксистов знал только по статьям. В Сибири прочитал несколько номеров "Искры" и "Что делать?" Ленина. Об Ильине, авторе "Развития капитализма", я смутно слышал в московской пересыльной (кажется, от Ванновского) как о восходящей социал-демократической звезде. О Мартове знал мало, о Потресове — ничего. В Лондоне, штудируя с остервенением "Искру", "Зарю" и вообще заграничные издания, я натолкнулся в одном из номеров "Зари" на направленную против Прокоповича блестящую статью о роли и значении профессиональных союзов. "Кто этот Молотов?" — спрашивал я Мартова. "Это Парвус". Но я ничего не знал о Парвусе. Я брал "Искру" как целое, и мне в те месяцы была чужда и даже как бы внутренне враждебна мысль искать в ней или в ее редакции различные тенденции, оттенки, влияния и пр.
Помню, я обратил внимание на то, что некоторые передовые статьи и фельетоны в "Искре" хотя и не подписаны, но ведутся от местоимения "я": "в таком-то номере я сказал", "я уже об этом тогда-то писал" и пр. Я справился, чьи это статьи. Оказалось, все Ленина. В разговоре с ним я заметил, что есть, по-моему, литературное неудобство в неподписанных статьях говорить от местоимения "я".
— Почему неудобно? — спросил он с интересом, предполагая, может быть, что я выражаю тут же случайное и не свое лишь личное мнение.
— Да так как-то, — ответил я неопределенно, ибо никаких определенных мыслей на этот счет у меня и не было.
— Я этого не нахожу, — сказал Ленин и как-то загадочно засмеялся. Тогда в этом литературном приеме мог почудиться душок "эгоцентризма". На самом деле выделение своих статей, хотя бы и неподписанных, было страховкой своей линии, как результат неуверенности насчет линии ближайших сотрудников. Тут перед нами в малом виде та настойчивая, упорная, попирающая все условности, ни перед чем формальным не останавливающаяся целеустремленность, которая составляет основную черту Ленинавождя.
Политическим руководителем "Искры" был Ленин, но главной публицистической силой был Мартов. Он писал легко и без конца, так же как и говорил. Ленин же проводил много времени в библиотеке Британского музея, где занимался теоретически.
Помню, как Ленин писал в библиотечном зале статью против Надеждина, который имел тогда в Швейцарии собственное свое небольшое издательство, где-то между социал-демократами и социалистами-революционерами. Между тем Мартов успел уже накануне ночью (он вообще работал преимущественно по ночам) написать большую статью о Надеждине и передать ее Ленину.
— Вы читали статью Юлия? — спросил меня Владимир Ильич в музее.
— Читал.
— Как находите?
— Кажется, хорошо.
— Хорошо-то хорошо, да недостаточно определенно. Выводов нет. Я вот тут набросал кое-что, да не знаю теперь, как быть: пустить разве дополнительным примечанием к статье Юлия?
Он передал мне четвертушку бумаги, исписанную карандашом. В ближайшем номере "Искры" статья Мартова появилась с подстрочным примечанием Ленина. И статья и примечание без подписи. Не знаю, вошло ли это примечание в Собрание сочинений Ленина. Что оно написано им, за это ручаюсь.
Несколькими месяцами позже, уже в предсъездовские недели, в редакции эпизодически вспыхнуло разногласие между Лениным и Мартовым по вопросу о тактике в связи с уличными демонстрациями, точнее говоря, о вооруженной борьбе с полицией. Ленин говорил: нужно создавать небольшие вооруженные группы, нужно приучать рабочих-боевиков драться с полицией. Мартов был против. Спор перенесли в редакцию. "А не вырастет ли из этого нечто вроде группового террора?" — сказал я по поводу предложения Ленина. (Напоминаю, что в тот период борьба с террористической тактикой эсеров играла большую роль в нашей работе.) Мартов подхватил это соображение и стал развивать ту мысль, что нужно учиться защищать массовые демонстрации от полиции, а не создавать отдельные группы для борьбы с ней. Плеханов, на которого я, да и другие, вероятно, смотрели с ожиданием, уклонился от ответа и предложил Мартову набросать проект резолюции, чтобы обсуждать спорный вопрос уже с текстом в руках. Эпизод этот потонул, однако, в событиях, связанных со съездом.
Ленина и Мартова не на собраниях и совещаниях, а в частной беседе мне довелось наблюдать очень мало. Длинных споров, бесформенных бесед, превращавшихся сплошь да рядом в эмигрантское калякание и судачение, к чему Мартов был так склонен, Ленин не любил и тогда. Этот величайший машинист революции не только в политике, но и в теоретических своих работах, и в занятиях философией, и в изучении иностранных языков, и в беседах с людьми был неизменно одержим одной и той же идеей — целью. Это был самый, может быть, напряженный утилитарист, какого когда-либо выпускала лаборатория истории. Но так как его утилитаризм — широчайшего исторического захвата, то личность от этого не сплющивалась, не оскудевала, а, наоборот, по мере роста жизненного опыта и сферы действия непрерывно развивалась и обогащалась… Бок о бок с Лениным Мартову, ближайшему его тогда соратнику, было уже не по себе. Они были еще на "ты", но в отношениях уже явственно пробивался холодок. Мартов гораздо больше жил сегодняшним днем, его злобой, текущей литературной работой, публицистикой, полемикой, новостями и разговорами. Ленин, подминая под себя сегодняшний день, врезывался мыслью в завтрашний. У Мартова были бесчисленные и нередко блестящие догадки, гипотезы, предложения, о которых он часто сам вскоре позабывал, а Ленин брал то, что ему нужно, и тогда, когда ему нужно. Ажурная хрупкость мартовских мыслей заставляла Ленина не раз тревожно покачивать головой. Какие-либо различные политические линии тогда не успели еще не только определиться, но и обнаружиться; лишь задним числом их можно прощупать. Позже, при расколе на II съезде, искровцы разделились на твердых и мягких. Это название, как известно, было в первое время в большом ходу, свидетельствуя, что если еще не было отчетливой линии водораздела, то была разница в подходе, в решимости, в готовности идти до конца. Возвращаясь к отношениям Ленина и Мартова, можно сказать, что и до раскола, и до съезда Ленин был "твердый", а Мартов — "мягкий". И оба это знали. Ленин критически и чуть подозрительно поглядывал на Мартова, которого очень ценил, а Мартов, чувствуя этот взгляд, тяготился и нервно поводил худым плечом. Когда они разговаривали друг с другом при встрече, не было уже ни дружеских интонаций, ни шуток, по крайней мере, на моих глазах. Ленин говорил, глядя мимо Мартова, а у Мартова глаза стекленели под отвисавшим и никогда не протиравшимся пенсне. И когда Владимир Ильич со мною говорил о Мартове, то в его интонации был особый оттенок: "Это что ж, Юлий сказал?", причем имя Юлия произносилось по-особому, с легким подчеркиванием, как бы с предостережением: "хорош-то хорош, мол, даже замечателен, да очень уж мягок". А на Мартова влияла, несомненно, и Вера Ивановна, не политически, а психологически отгораживая его от Ленина. Разумеется, все это больше обобщенная психологическая характеристика, чем фактический материал, и притом характеристика, даваемая 22 года спустя. За это время многое легло на память, и в изображении невесомейших моментов из области личных отношений могут быть и неправильности, и нарушения перспективы. Что тут воспоминание и что невольная реконструкция задним числом? Но думается мне, что в основном все же память восстанавливает то, что было, и так, как было.
После моих "пробных", так сказать, выступлений в Уайт-Чепеле (Алексеев давал о них "отчет" членам редакции) меня отправили с рефератом на континент — в Брюссель, Льеж, Париж. Реферат у меня был на тему: "Что такое исторический материализм и как его понимают социалисты-революционеры". Владимир Ильич очень заинтересовался темой. Я давал ему на просмотр подробный конспект с цитатами и пр. Он советовал обработать реферат в виде статьи для ближайшей книжки "Зари", но я не отваживался.
Из Парижа меня вскоре вызвали телеграммой в Лондон. Дело шло об отправке меня нелегально в Россию по мысли Владимира Ильича: оттуда жаловались на провалы, на недостаток людей, и, кажется, Клэр требовал моего возвращения. Но не успел я доехать до Лондона, как план уже был изменен. Л. Г. Дейч, который проживал тогда в Лондоне и очень хорошо ко мне относился, рассказывал мне впоследствии, как он "вступился" за меня, доказывая, что "юноше" (иначе он меня не называл) нужно пожить за границей и поучиться, и как Ленин после некоторого спора согласился с этим. Очень заманчиво было работать в русской организации "Искры", но я тем не менее охотно остался еще на некоторое время за границей.