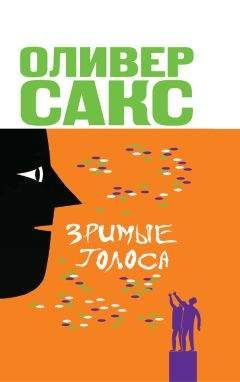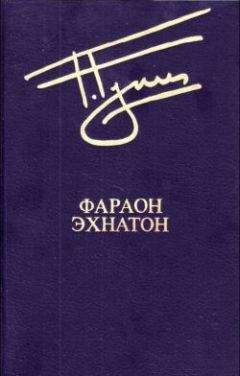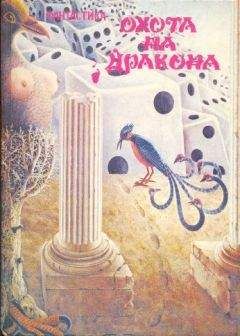Ознакомительная версия.
Магическая власть музыки бессловесна. Музыка способна, не прибегая к слову, выразить красоту и трагизм бытия внечеловеческого, приобщить нас к живой природе, в том числе и к таинственной жизни «фольварков, парков, рощ, могил», и к жизни бессловесной твари — хотя бы лошади. Самое абстрактное, но и самое эмоциональное из всех искусств, музыка может прийти на помощь конкретности театра и установить прямую, эмоционально непогрешимую связь между человеком и природой, его не только окружающей, но и в нем самом, в человеке, звучащей и сущей. А ведь оно, это природное, если угодно «животное», в человеке и, наоборот, «человеческое» в животном были Толстым восприняты как противоречия мучительные. Музыка тут, в композиции Товстоногова, выступает как идеальный переводчик, толмач, помогающий режиссеру говорить сразу на двух языках — людском и лошадином, поведать зрителям не только о лошадиной жизни и смерти, но и о жизни и смерти вообще.
Силой музыки, омывающей весь спектакль, людское, проступающее в образах лошадей, подается с особенной рельефностью.
В маневрах между двумя планами — лошадиным и людским — Товстоногову неожиданно пришелся кстати сценический язык Брехта. По-брехтовски совершенно откровенна свобода, с которой актеры то сливаются с персонажами, то, будто от них отстраняясь, комментируют, горько и трезво, их помыслы и поступки, то имитируют лошадиные повадки, а то вдруг снова очеловечивают свои роли.
Однако в режиссерской партитуре, часто прибегающей к брехтовским приемам, музыка используется вовсе не по-брехтовски, иначе. Если в театре Брехта зонги — всегда вставные номера, сознательно и четко отделенные от драматического действия, разрывающие его ход, чтобы дать в музыке и вокале смысловую формулу совершившегося, ударное идейное резюме, то в «Истории лошади» мелодия и песня выполняют прямо противоположную функцию: они не отделяют, они связывают эпизоды друг с другом. Они, кроме того, настойчиво сближают жизнь человеческую и жизнь лошадиную, толкают наше воображение туда, куда и хочет его вовлечь режиссер.
Завывания Е. Лебедева — Холстомера следуют «человеческому» рисунку старинной русской мелодии, и «лошадиное» обозначено только тем, что завывания — бессловесны. Дальше, после того как Е. Лебедев прорыдал свой запев, он может и заговорить, но может и заржать, он уже и человек, и конь сразу.
А мы теперь всему верим, мы уже приняли невероятную и небывалую меру условности, предложенную театром.
Но и лошадиное и человеческое в спектакле — всего лишь необходимые псевдонимы, то есть опять-таки условные знаки той антиномии, о которой уже шла речь. Физическое, чувственное, природное на протяжении всего спектакля борется с духовным, от плоти независимым, телу неподвластным. Толстовские понятия «животного» и «божеского» соотнесены режиссером с толстовской же сложностью и многозначностью. А потому спектакль вовсе не взирает с ханжеским осуждением на земное, плотское и не зовет к духовности бесплотной, к чистоте стерилизованной.
Наоборот, один из самых сильных, незабываемых моментов партитуры Товстоногова — именно тот момент, когда умерщвление плоти, стерилизация, насильственное превращение коня в мерина показаны на сцене едва ли не с натуралистической силой, как мука непереносимая, адская, как боль и кровь. И с этого момента весь остаток лошадиной жизни Холстомера окрашивается неизбывной печалью.
Толстовское чувство непосредственной радости, полноты и напористой силы земного бытия со всех сторон рвется в пределы сцены. Мощный топот мчащегося табуна, дикие песни кобылиц и коней, любовные игры Вязопурихи, ликующий размашистый бег самого Холстомера — все это насыщено неукротимой волей к жизни и отзывается счастьем. В этом-то смысле Товстоногов по-толстовски проницателен и чувствителен ко всем без исключения минутам или мгновениям естественной природной красоты. Режиссер не морализует. С морализаторской позиции легче легкого вынести обвинительный вердикт Милому. (Иные критики и спешат «осудить» жеребца.) Наглый, самоуверенно гарцующий, жестокий, одно слово: жеребец! Но прислушайтесь, как хрустит кусок сахара в зубах Милого. Сколько раз настойчивым рефреном звучит этот хруст — смачный, бездумный, ко всему на свете равнодушный, даже циничный, однако же восхитительный! Восхищает сила, которая играет, переливается, собой упивается и которая, тем не менее, восхищения достойна. Ибо Милый — совершенное в своем роде, прекрасное создание природы. Природа же — вне морали, с моральными мерками к ней не подступишься.
Вполне по-толстовски режиссер отказывается от моральных критериев даже тогда, когда Толстой-моралист, Толстой-проповедник их выдвигает.
Короткая счастливая пора жизни Холстомера показана ликующей и лихой сценой выезда: слева, барски откинувшись на воображаемом сиденье, развалясь и снисходительно хмурясь, смотрит в одну точку красавец-князь Серпуховской — Олег Басилашвили, справа, приподнявшись на козлах, широко и горделиво размахивает кнутом бравый кучер Феофан — Ю. Мироненко, а в центре, с гибельным восторгом закусив удила и легко распластывая над мостовой длинные ноги, все ускоряя и ускоряя бег, рвется вперед, летит, конечно же, сам Холстомер — Е. Лебедев. И мы все это видим, хотя нет на подмостках ни Кузнецкого моста, ни тротуаров с прохожими, ни мостовой, ни экипажа, и трое актеров просто-напросто стоят посреди сцены лицами в зрительный зал.
Эпизоду выезда предшествует саркастически горькая фраза Толстого о том, что ни кучер, ни князь никого, кроме самих себя, не любили. Фраза эта отнюдь не оставлена без внимания. Мы замечаем, конечно, что князь любуется собою, богатством, властью, кучер — своим мастерством, а Холстомер, красавец и бедняга Холстомер, он-то любуется собственной безграничной преданностью хозяину, готовностью и способностью совершить чудо на радость князю.
Но все эти легко обозначенные оттенки партитуры выезда тотчас же стираются режиссерской рукой, выдвигающей взамен разрозненности — мотив согласия, общего для всех троих ликующего упоения бегом. Мизансцена в целом звучит как счастливое мгновение, как живая метафора счастья. Она организована Товстоноговым с такой неотразимой точностью, что счастье охватывает и весь зрительный зал, который взрывается восторженными аплодисментами.
Думаю, что Товстоногов сумел на удивленье простыми средствами выразить мироощущение Толстого, передать свойственную толстовскому гению остроту восприятия мощного и свободного полнокровия бытия, которое люди ценить не умеют, искажают, опошляют, уродуют. Вся притча о Холстомере — трагическая притча о том, как изуродовали и погубили естественную, природную красоту. Трагедийные темы входят в спектакль как темы, враждебные самой жизни, они переплетаются, накопляются, непосильной тяжестью давят на судьбу лошади. Идея собственности, ко всему живому прикрепляющая ненавистные ярлыки «мой», «моя», «мое», циничная жестокость купли-продажи, человеческая тщеславность и человеческая расчетливость убивают Холстомера.
Но только ли его, только ли старого мерина они убивают? — вот вопрос.
Ответ предчувствуется в том, как — и куда — ведет Лебедев свою роль. Муки лошади, артистом показанные как муки нечеловеческие (человек таких испытаний физически выдержать не может), лошади изнуренной, больной, хромой, грязной, заживо гниющей, производят впечатление тягостное и потрясающее. Но эта лошадь, ведь и она человек! Мятущаяся, мечущаяся в поисках объяснения, почему же такое с лошадью происходит, терзаемая человечность смотрит прямо на нас глазами умирающего коняги. Холстомер вопрошает на пороге небытия, зачем ему и нам была дарована жизнь, какой в ней предполагался высший смысл, мог ли он осуществиться, а если не мог, то почему?
Трагедия безбоязненна, и ответом на все вопросы, которые она выдвигает, становится вдруг сухая, намеренно бесстрастная информация о том, что произошло после смерти с тушей коня и с телом князя. В этот момент музыка не нужна, она смолкает. Итоги подводятся в холодной и ясной тишине. Актерские темпераменты сделали свое дело, исполнители могут наконец перевести дух.
3
Элементы брехтовской театральности в «Истории лошади» введены Товстоноговым в сложную структуру, стилистически от Брехта независимую. Брехтовское тут — не метод и не принцип. Приемы, брехтовские по происхождению, плотно смыкаясь с другими средствами выразительности и попадая в новый контекст, начинают работать иначе, нежели в спектаклях Берлинского ансамбля.
Если в «Хануме» и есть вахтанговское своеволие в самом подходе к старинному сюжету, то жизнь спектакля течет не по вахтанговскому руслу и все ситуации просматриваются отнюдь не в вахтанговском ракурсе.
В обоих случаях Товстоногов, опираясь на опыт предшественников, пользуется их находками свободно, не выказывая ни прилежания копииста, ни претенциозного желания вывернуть унаследованную образность наизнанку. Его связи с режиссерским искусством недавнего прошлого интенсивны, откровенны и практичны. Порой он без страха позволяет себе прямые цитаты из общепризнанных режиссерских шедевров. Одна из сцен его «Ревизора» — точная копия аналогичной сцены из «Ревизора» Мейерхольда, но мейерхольдовский «Ревизор» и товстоноговский «Ревизор» — спектакли, между которыми (несмотря на цитату), ни идейной, ни стилистической общности нет. Возвращая, через двадцать лет после Таирова, к сценической жизни «Оптимистическую трагедию» Вишневского, Товстоногов не убоялся повторить некоторые внешние мотивы таировской композиции, но и смыслово, и формально поставил не просто другой, а принципиально иной спектакль.
Ознакомительная версия.