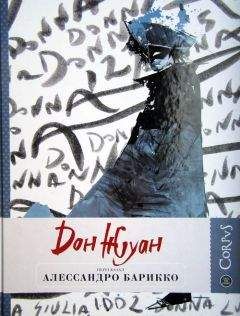– Расскажешь, как это было?
– Делая аранжировку, я брал на себя большую ответственность: я экспериментировал, используя оркестр по полной, как, по моему мнению, и следовало, старался избегать всего традиционного и примитивного. Я старался всегда присутствовать на репетициях, потому что, слушая вживую то, что я сочинил, я многому учился. Но иногда я не мог прийти на работу, ведь я еще посещал консерваторию.
Но именно в такие дни Савина звонил и говорил: «Приезжай, приезжай немедленно. Это срочно!» Я бежал со всех ног, садился на 28 трамвай, машины у меня еще не было, от остановки шел пешком до улицы Азиаго и когда наконец добирался до места, он принимался ругать меня у всех на глазах, перед всем оркестром! «Что это ты понаписал? Ничего не разобрать! Что ты тут насочинял?» Иногда Савина придирался к резкой смене ключевой тональности, а однажды, помнится, прицепился к одному фа-диезу – ему показалось, что фраза получилась слишком смелая, это всегда ставило его в тупик. Он послал за мной, потому что подумал, что, может быть, я ошибся, а пока я добирался, орал во весь голос.
После репетиции Савина спрашивал, не подвести ли меня, и я соглашался, потому что он все равно ехал в мою сторону. Когда мы оставались наедине, он восхвалял предложенные мною решения, те самые, за которые бранил всего несколько часов назад.
– Клянусь, так оно и было, – серьезно добавляет Морриконе, заметив, что я улыбаюсь.
– Что ты, что ты, я верю! Ведь речь шла о его авторитете…
– Как технически, так и концептуально мои аранжировки требовали куда больше, чем те, что он предлагал сам. Оркестр часто сталкивался с такими оборотами, каких прежде никто не играл. Я пользовался возможностью, предлагая весьма далекие от стандарта варианты, к которым все относились настороженно. Через какое-то время мы с Савиной поделили работу поровну – с моим приходом он отказался от других ассистентов-аранжировщиков.
Вспоминая все по прошествии стольких лет, это кажется чем-то невероятным, но именно так я и начал работать по-настоящему. Савине нужен был человек, меня рекомендовал его контрабас, и вот Савина, ни разу не слыхавший о Морриконе, пригласил меня. Представь себе. Бывает же в жизни такое везение… Другие были времена. Оглядываясь назад, мне представляется, что именно благодаря этой работе я зацепился в мире музыки. Вскоре и другие дирижеры и аранжировщики RAI стали меня приглашать. Я соглашался на любой гонорар. Вслед за Савиной мне удалось поработать с Гвидо Черголи, с Анджело Бригадой, с Чинико Анджелини и другими римскими дирижерами тех лет, в том числе с Барциццой и его «Оркестра Модерна» – это был самый большой оркестр – целых пятьдесят инструментов! Именно с ними я работал в 1952–1954 годах в цикле радиопередач «Красное и черное», которые вел Коррадо.
– Кажется, как раз Пиппо Барцицца и назвал тебя «самым талантливым композитором, которому суждена блестящая карьера». А как были устроены все эти оркестры? На кого конкретно ты работал? Каков был путь, который приходилось преодолевать, прежде чем песня выходила в эфир?
– В самом деле, между одним оркестром и другим, между одним дирижером и другим была огромная разница, хотя все они работали на радио. Оркестры Бригады и Анджелини, первый был чуть больше второго, являлись так называемыми кавер-бандами. В них входили саксофоны, трубы, тромбоны и ударные – состав, наиболее близкий таким жанрам, как свинг и джаз. А вот оркестр Барциццы включал струнные и деревянные духовые, и тут уже аранжировщику можно было немного развернуться. Оркестр самого Савины был небольшой, но поскольку он то и дело добавлял разные инструменты и сменял состав, то в целом превосходил все остальные.
Позже появился оркестр Бруно Канфоры. Обычно песня, а именно мелодия и слова, представлялась художественному руководителю радиостанции, который выпускал передачу. И уж потом, в зависимости от жанра, выбирали подходящий оркестр, а конкретный дирижер предлагал мне сделать одну или несколько аранжировок. Я числился «внештатным сотрудником», компания платила мне сдельную плату. Сколько закажут, столько и заработаю.
Я владел разными музыкальными жанрами, умел играть, да еще и писать в разных стилях – все вместе это означало, что мне открывались широкие возможности для работы. Но ведь работа с музыкой всегда считалась творческой, а значит, свободной профессией – то есть ты работал, но никогда не знал, сколько заработаешь. Именно поэтому через несколько лет я решил подписать договор с компанией RCA – итальянской версией зарождающейся индустрии звукозаписи. Признаться, прошло много лет с тех пор, как я работал на радио, и последний раз я вспоминал о том времени и о тех людях в 1995 году, когда работал над фильмом Торнаторе «Фабрика звезд». И хотя Торнаторе знал, что нынче я неохотно соглашаюсь делать аранжировку чужого произведения, он уговорил меня поработать над «Звездной пылью» Кармайкла и Пэриша так, как я когда-то, в пятидесятые, работал на радио с оркестрами.
– Как ты обычно работал над аранжировками?
– Со временем я неплохо набил руку и мог сделать до пяти аранжировок за день. Я старался импровизировать как можно больше, чтобы не скучать, и в то же время сорвать ярлыки с профессии.
– Как это?
– Профессия – это опыт, который накапливается со временем и благодаря которому мы не повторяем ошибок прошлого, он позволяет нам лучше проявить себя в профессии, понять себя и наладить общение со слушателем. Опыт ведет нас к тому, что считается привычным, к тому, что становится для пишущего и слушающего обычной практикой, нормой конкретного культурно-исторического отрезка. Это своего рода «проторенная дорожка», а значит, такой опыт надо накапливать. Однако уже в самом начале я видел в своей профессии определенные опасности – например, то, что работа с аранжировками перерастет в привычку, что я закостенею, перестану двигаться вперед. Если писать постоянно одно и то же, то ты не развиваешься, а развиваться и искать новые решения нужно без перерыва. В то же время часто происходит, что композиторы предпочитают идти по проверенному пути и, как следствие, повторяются. Если руководствоваться знакомыми путями, идти по проторенной дорожке – рискуешь увязнуть в рутине, набить руку настолько, что будешь пассивно повторять одно и то же, застрянешь на одном месте, где все и закончится.
Так что я сказал бы, что состояться в профессии – это святое, но нужно иметь пространство для постоянного эксперимента.
– Понятно. А как думаешь, чем отличались твои аранжировки от тех, что считались тогда «типичными»?
– Мелодию песни, на которую нужно было наложить аранжировку, я всегда ставил в центр, так, чтобы аранжировка была как бы сама по себе. Я не только «одевал» центральную партию в соответствующее платье, но создавал еще одну музыкальную личность. С одной стороны, она была совершенно независима, а с другой – являлась дополнением и хорошо сочеталась и с главной мелодией, и с текстом, если таковой имелся. Это особенно заметно на пластинках Миранды Мартино. На двух из них представлены подборки неаполитанских песен, на третьей – несколько старых итальянских шлягеров.
– Какие впечатления у тебя остались от этой работы?
– Это были одни из первых пластинок RCA на 33 оборота. Они охватывали долгий период – с 1959-го по 1966-й годы. На этих пластинках с Мартино я предложил новые, неочевидные, авангардистские решения, которые были раскритикованы многими, особенно ортодоксальными любителями неаполитанской песни.
– Очень может быть, что причины, по которым последовала такая волна критики, были ровно те же самые, что обеспечили тебе успех. Что именно ты предложил?
– Уже в 1961 году в одной из версий песни «Голос в ночи», подготовленной для пластинки «Просто скажи, что я люблю его», у меня появилась мысль сопроводить голос исполнительницы арпеджио, а параллельно наложить тему из «Лунной сонаты» Бетховена. Я отталкивался от идеи Ноктюрна.