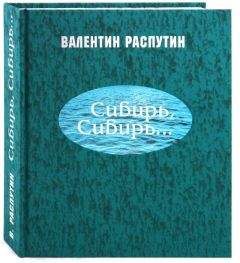Я был наказан. Когда в одном высокочтимом барнаульском кабинете я пустился в рассуждения, что да, потери земли с одной электростанцией невелики и она могла бы быть, но… Дальше случившийся при разговоре журналист не слушал. Никаких «но». Его статья, перепечатанная десятками газет, без оговорок, будто самого родного человека, пригвождала меня к порогу Минэнерго.
Накануне мы с этим журналистом провели едва ли не полный день, и он не мог не знать моего отношения к катунским гидростанциям.
Вертолетчики позвали меня в кабину, откуда видно и вниз, и вперед, и по сторонам. И видно: правильный, как от высадок, строй сосен по речке Эдиган, строй лошадей на туристском маршруте с седоками, похожими на поклажу, лоскутки засеянной пашни близ Куюса — как древние письмена, яркие палатки экспедиции, работающей на раскопках по дну будущего моря, обрыв старого Чуйского тракта… Дальше — бездорожье, пограничье, другой район и в нем через небольшой разгон снова плодородье, сады, заселенность.
Перечислять ли и впредь катунские притоки и протоки, разливы и пороги — все, чем, как дерево, раскинувшее ветви, по стволу и кроне дышит, шумит и переливается река, считывать ли по-прежнему краски и знаки, скалистые свесы и прибрежные переборы, искать ли сравнений им, перечислять ли зверье, выходящее по тропам на водопой, обмерять ли чувство, то восторженно, то молитвенно отзывающееся на родственность, словно отсюда и отсюда по капле тебя выносила Катунь и где-то затем что-то сбирало в душу, хоть и рожден ты в другой стороне?.. Но Родина — это не одно лишь место рождения, но и место родительства и предтечества. И сразу, как оказался я впервые на Катуни пятнадцать лет назад, потянулась моя память так, будто и я в далекой давности кочевал тут, да ушел по соседству и забыл. Так и должен, вероятно, чувствовать себя россиянин всюду по древней России. А уж нам в Сибири, где вся земля из края в край была под единой братынью — кочевнической волей, и вовсе грех не узнавать пути переходов.
Мы продолжали вонзаться над узкой белой расстелью Катуни в каменистую страну, Катунь продолжала сбегать, берега, то и дело преображаясь, играя, перетягивая друг у друга скупую подольность, продолжали наплывать. Нет ничего более волнующего, завораживающего и обмиряющего, чем речные берега и особенно — горных рек, где все чисто, звучно, быстро и свободно. Что толку умиляться, восторгаться, ахать — здесь надо быть, набрать в легкие этого воздуха, обмужествовать и обласкаться этой чердынью. Все тут живет своей жизнью, все сияет, пылает, звенит, бежит и свисает по своим законам и надобности, все существует без смерти и тлена, надо всем стоит бесконечность — и как не повлечься через все препятствия и версты, как в старину на святой Афон, чтобы утвердить душу!
Чем дальше вонзались мы, выше, мощней и изломанней вздымались горы, уверенней становился их росчерк, гуще лес. Если и осталась где-нибудь на Алтае «чернь», не пропускающая света пихтовая и кедровая тайга, она должна быть здесь.
И еще выше горы. Катунь бежит в глубокой расщелине. Тяжелые развалы, подпирающие друг друга, начинают подряд выгораживаться зубцами. Это расставленное вразнорост, но все возвышающееся и возвышающееся воинство — куда оно оборочено, какую сторону защищает? Это уже не земля в обычном понятии тверди, это ступенчатый восход к небу, монолитный и неизбежный, куда изначально подготовлялось подыматься или откуда спускаться окончательной ногой.
А пока туда летят над Катунью журавли. Мы успеваем сосчитать их, два раза по семь, и прощаемся с ними и Катунью, отворачивая влево, спрямляя дорогу к ее изголовью. По реке Ак-Кем к Белухе ближе.
Над хозяйкой хозяйка
Если Катунь — хозяйка-хлопотунья, кормилица-поилица, то Белуха — царствующая хозяйка, владычица, поклонившая себе огромные владения, надо всем вокруг распростершая свою волю.
…Летим над Ак-Кемом, и не проходит пяти минут, впереди является Белуха. Она не выплывает из-за ближних вершин, а как бы снимает с себя покров и в глубине и высоте разом показывается за царскими вратами сверкающей образностью.
Да, и в высоте. На приборе 1600 метров, у Белухи — 4500. Зависнув над скалами, начинаем подъем. Лесистые поставы гор с белыми шапками, весь этот могучий и недвижный надземный архипелаг сравнивать не с чем, язык наш перед подобной архитектурой не имеет запасов, и то, что зовется величием, мощью, высотой, лишь стекая отсюда, получает эти названия. Но и здесь сток, и здесь наклонность и пригорбленность, вершина — выше.
Слева остается продолговатый вытав из ледника озера Ак-Кем, из которого берется река, и возле него четкой картинкой домики метеостанции и палатки международного альпинистского лагеря. (Вертолет словно втягивает вдохом Белухи, эти великие изваяния, эти вымахи в небо, составляющие вместе единый и необъятный для глаза град, не могут быть мертвыми. Тут не природа, как привыкли мы видеть и понимать природу, она начинается ниже. Тут — над природой, единый раскрой ее и разнос на многие сотни и тысячи верст, рождение ветра, воды и земли, и, кажется даже, что времени, начало чистодува и чисторода, берущихся из вечности, выспоренное у солнца подлунное царство, космическая роспись…
Дышать и говорить трудно — не хватает кислорода. Но и смотреть трудно — не хватает зрения. Не можешь отвести глаз: воистину неземная картина — и непосильная для глаз, для их проводящих путей, все так несъемно и остается. Какую, должно быть, жалость и отчаяние испытывает космонавт, глядя на Землю со своей орбиты: все видно, но неподхватно, холодно, чужим, циклопическим взглядом. И получается, что все — это ничего.
Мы подбивались к Белухе с северо-восточного угла. А казалось — изо всех сил отпячиваемся, но нас втягивает. Я видел почти на одном уровне с вершиной ее верблюжью седловину с двумя горбами, видел с нашей стороны более чем отвесную стену, как говорят альпинисты, с отрицательным уклоном, и тяжелый навес снега над нею, острые контуры скальных разломов, черные, рядом с белым, пятна покатей и морщи на белом… — так, вероятно, взобравшаяся на дерево букашка рассматривает человеческий лик, и то, что представляет для нас красоту и совершенство, эстетическое и инструментально-познавательное, принимает за разрывы, разломы и выторчи.
Медленно и величественно разворачивалась Белуха. Мы обогнули ее с востока и зашли со спины, где она спадала покато и упористо. На уклоне невесть как висело озеро, за ним еще одно… не сразу я догадался, что это ледники, и тут же увидел источие Катуни.
Профессор Томского университета В. В. Сапожников, всю жизнь посвятивший изучению Алтая и первым поднявшийся на седло Белухи, так описывает зарождение Катуни:
«Катунь берется из ледника Геблера двумя истоками; правый, несколько больший, вытекает из-под льда саженях в двадцати от конца ледника и бурно течет между ледяной стеной с одной стороны и нагромождениями конечной морены с другой. По рассказам, прежде у выхода потока был большой грот, но теперь он обвалился и растаял, оставив только небольшую темную щель неправильной формы. Левый поток берется также из-под ледника у его конца, но ближе к левой стороне. Оба потока шумно извиваются в каменистых руслах, пока не сольются вместе…»
Как удержаться, чтобы не подняться с ученым и его спутниками на питающее Катунь ледяное плато (экспедиция 1895 года):
«Толща льда, нависшего над горизонтальной трещиной, выпускающей Катунь, простирается до 8-10 сажен, и взобраться прямо на ледник опасно, ввиду возможности обвала, и трудно. Легче для этого воспользоваться мореной, хотя и это представляет свои неудобства. Громадные угловатые камни насыпаны в полном беспорядке; многие лежат неустойчиво и колеблются под ногами, открывая глубокие щели. Пройдя по морене несколько сажен, можно повернуть направо и взойти на ледник по одному из ледяных хребтов между трещинами, которые идут по всему краю ледника, но совершенно безопасны, потому что их хорошо видно. Дальше от края крупные трещины почти исчезают, и ледник представляет ровную поверхность, источенную мелкими ручьями воды и усыпанную камнями. Крупные камни образуют невысокие ледяные столы, мелкие глубоко въедаются в прозрачный лед, а кучи щебня возвышаются в виде правильных конусов. Ближе к высокой средней морене ледник опять разорван глубокими трещинами, которые перед самыми камнями образуют сплошной ряд темных провалов, куда с шумом свергаются потоки воды, бегущие по льду. Иногда с моренной гряды обрывается подтаявший камень и с глухим шумом ударяется в воду на дне провалов».
Вот из чего берется Катунь, вот отчего вода ее бела. И сразу, в двух шагах от сплошного льда, появляются между камнями низкорослые стелющиеся пихты, ерник, кипрей и копеечник, чуть ниже тальник. Мутная Катунь извивается, оставляя в рыхлой наносной почве старые русла и находя новые, ветвится на протоки. Но, приняв справа отногу с другого ледника, течет Катунь уже среди лесов и высоких, в рост человека, трав, все набирая и набирая воду, и поворачивает на запад мощным течением, чтобы обойти белки громадной петлей удобными путями.