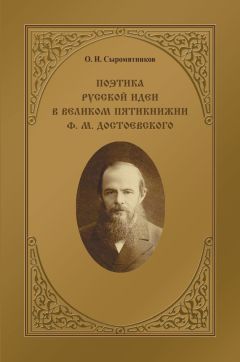Еще раз: пространство «контекстной» культуры было организовано таким образом, что в нем иерархичность, масштаб, уровень, «табель о рангах» играют подчиненную роль; пространство это как бы децентрализовано и разомкнуто в будущее; множество образующих его текстов свободно пересекаются друг с другом, и нельзя твердо сказать, что сыграло решающую роль для рождения «Пира…»: державинская ли ода, рылеевская ли дума, розеновская ли идиллия. Нет «главенствующего» текста, на фоне которого остальные произведения осознаются как взаимосвязанные и вне которого ни одно из них не может осуществить свой смысл во всей его полноте.
«Неоканонические» отношения строятся на принципиально иных основаниях. Они «пристреляны» к одной цели; они ориентированы на главенствующий центр, что, конечно, не отменяет своеобразного равноправия взаимодействующих стихотворений. Тютчев в своем лирическом шедевре следует тому же правилу, что и Федор Кони в куплетах Бородавкина из «шутки-поговорки» «Всякий черт Иван Иваныч!» (1850), где Ермил Ермилыч Бородавкин, московский купчик, попадает в Петербург и затем восторгается им в игровом разговоре с молодой провинциалкой:
Питер — древняя столица,
Я осмелюсь доложить. (…)
Здесь что шаг, то удивленье?
Всюду мрамор да гранит. (…)
Все в размерах здесь громадных,
От палат до фонарей…
И вдобавок дней отрадных
Не бывает здесь ночей. (…)
Да, уж надобно сознаться.
Что отыщется не вдруг
В целом свете, может статься,
Городок, как Петербург!
Простосердечный рассказчик из «Пира…» как бы персонифицирован и осмеян, в очередной раз спародирована и строка из пушкинского стихотворения «Город пышный, город бедный…» — «Скука, холод и гранит…». А Козьма Прутков, пародийно совмещающий в своем монологе пушкинское и муравьевское «парение» — с бенедиктовской горделивостью и гонором («Я бы, с мужеством Ликурга, /Озираяся кругом, /Стогны все Санктпитербурга/ Потрясал своим стихом!»); Прутков, обыгрывающий устойчивую связь в поэзии своего времени образа водной глади и плывущего по ней парохода — с четырехстопным хореем («…И, поверхность разрезая/ Темно-синей массы вод, /Мерно крыльями махая,/ Быстро мчится пароход…/ (…) И кладем в одно мгновенье/ След во всех сердцах людских/ (…)» — парадоксально совпадает в ассоциативном «ходе» с Некрасовым, который связывает судьбу Ломоносова с судьбою Петра, а свое стихотворение о первом — с пушкинской одой последнему:
— Ну, пошел же, ради Бога!
Небо, ельник и песок —
Невеселая дорога…
Эй, садись ко мне, дружок! (…)
Скоро сам узнаешь в школе,
Как архангельский мужик
По своей и Божьей воле
Стал разумен и велик.
Тютчев и Кони; Некрасов и Прутков — ясно, что стихи этих поэтов существуют в разных сферах культурного пространства, и соотносимы лишь благодаря) общему для них фону, одной точке отсчета, расположенной в прошлом. Они не соприкасаются друг с другом, как соприкасались — при всем различии уровня дарования их авторов — стихи Якубовича и Рылеева, Жуковского и Муравьева, Пушкина и Розена. И в этом коренное отличие «канонического» типа связи текстов от «контекстного».
А то, что последний неуклонно шел на убыль, ослабевал в поэзии второй половины века, хорошо видно из творчества долгожителя пушкинской эпохи, трагически ощущавшего свое духовное одиночество среди молодых поколений, — П. А. Вяземского. В стихотворении 1843 года «Ночь в Ревеле» он еще мог позволить себе по старой памяти вполне «контекстный» прием, обыгрывая переклички с «Пиром…»:
(…) Дней Петровых современник,
Взяли в плен его враги (…)
Иль с Бригитой и Олаем
Ты, мешая быль и ложь,
Неумолкным краснобаем
Речи странные ведешь?..
Да и ты, теперь опальный,
А когда-то боевой,
Ревель, рыцарь феодальный
Под заржавленной броней,
Ты у моря тихо дремлешь,
Под напевами волны (…)
Смелый Карл и Петр могучий,
Разгоревшие враждой,
Как две огненные тучи,
Разразились над тобой(…)
Ревель датский, Ревель шведский,
Ревель русский! — Тот же ты!
И Олай твой молодецкий
Гордо смотрит с высоты,—
узнаваемыми реминисценциями из «Богини Невы» М. Муравьева:
Молча думою прилежной
Каждый звук я твой ловлю,
И тоски твоей мятежной
Я бессонницу делю.
Но такая многокорневая разветвленность текста уже воспринимается как эстетский набор «реминисценций», как холодноватый прием творчески уходящего в прошлое, но физически пребывающего в настоящем поэта начала века. И не случайно спустя десятилетие Вяземский, подвластный общему закону, меняет тип своего сотрудничества с хореическими разработками русской темы и в стихотворении «Масленица на чужой стороне» (1853) отказывается от погружения в контекст уходящей культуры, позволяя себе лишь повторение канонической модели «Пира…»:
Чем твою мы милость встретим?
Как задать нам пир горой?
Не суметь им, немцам этим
Поздороваться с тобой.
Не напрасно дедов слово
Затвердил народный ум(…)
Скоро масленицей бойкой
Закипит широкий пир,
И блинами и настойкой
Закутит крещенный мир (…)
(…)Игры, братские попойки.
Настежь двери и сердца!..
Нет конца веселым кликам,
Песни, удали, пирам.
Где тут немцам-горемыки
Вторить вам, богатырям?
Тут важно помнить о трагическом обстоятельстве: в 1852 году русская литература понесла сразу две утраты, от которых так и не смогла оправиться: умерли Жуковский и Гоголь. С их кончиною обрывались последние, истончившиеся уже до предела, нити, связывавшие молодую словесность второй половины столетия с классическим периодом; и если после этого «канон» приходит на смену «контексту» даже в творчестве одного из самых ярких литераторов пушкинской эпохи[89],— то чего можно ждать от лириков, всецело принадлежащих новому, отнюдь не контекстному времени? Отсылка к общему канону играет в их поэзии, по сути, ту же роль, какую играл контекст в поэзии их предшественников, — объединяющую. Но это принципиально иное объединение: «на фоне Пушкина», а не внутренне; с классическим образцом, а не друг с другом.
* * *
Итак, традиция замкнулась на Пушкина. Расцвечивать вариации на тему «Пира…» оказалось мыслимо лишь за счет пушкинских же резервов. Но одно дело — использовать для этого стихотворение «Город пышный, город бедный», и совсем другое — хореические стихи Пушкина, эмоционально противостоящие светлой тональности «Пира…». Однако русские поэты послепушкинского поколения пошли на такую «опасную связь». И в этом — помимо их воли — находил воплощение один из важнейших этапов канонизации любого текста: определение границ его влияния, нахождение пределов, за которыми его действие теряет силу.
В 1847 году появляется известная «идиллия» Михаила Дмитриева «Подводный город», полемичность которой по отношению к Пушкину самоочевидна; с «Медным Всадником» она уже сопоставлялась[90]. Но в той же теснейшей смысловой и художественной связи, в какой находится с «петербургской повестью» «Пир Петра Первого», пребывает он и с «Подводным городом». Страшноватая «идиллия» Дмитриева, рисующая картину затопленного наводнением и забытого потомками Петербурга — города, обреченного проклятию за свою чужеродность историческому пути России, неправедность своего богатства, — отчетливо и сознательно ориентирована сразу на четыре пушкинских текста. «Медный Всадник» уже назван, шла речь о «Пире…», вослед которому в «Подводном городе» возникает не только тема Петра, но и образ рассказчика из народа с его характерной простоватой речью; остается назвать «Бесов» (у Дмитриева: «Море ропщет, море стонет…»; у Пушкина — «Небо тускло, сквозь туманы /Всходит бледен солнца лик….») и «простонародную сказку» «Утопленник». Ясно, что примирить разноречивый пафос этих пушкинских шедевров совершенно невозможно; в намерения Дмитриева как раз и входило взрывоопасное их столкновение. В его «идиллии» нет места ясной воодушевленности «Пира…», чей свет здесь приглушается до болотного мерцания «Бесов» и «Утопленника». Автору напоминают о концепции его же «Медного Всадника»:
Молча на воду спускает
Лодку ветхую рыбак,
Мальчик сети расстилает,
глядя молча в дальний мрак,—
трудно ли узнать здесь Вступление к пушкинскому «Всаднику»? Но сюжет о наводнении из «петербургской повести» словно поручено пересказать рыбаку или — иначе — «человеку из народа», от имени которого написан «Пир…».