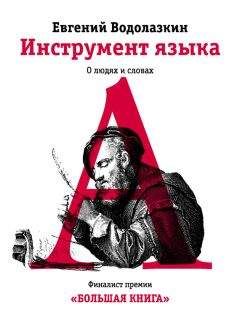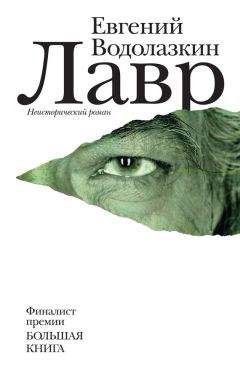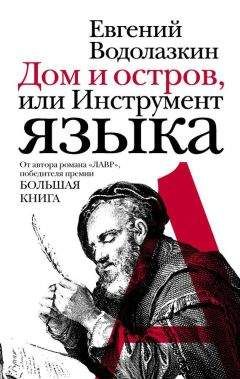Мифологические архетипы в головах современных людей сидят так же прочно, как сидели они в головах людей прошлого. Без осознания этого не объяснить невероятного успеха «Гарри Поттера», «Властелина колец» или, скажем, победы финских монстров на «Евровидении». Но это – отдельная тема. Что же касается нашей темы – национальной мифологии, – можно попытаться ответить на два вопроса: 1) зачем она нужна им? и 2) зачем она нужна нам?
Ответ на первый вопрос, в сущности, очевиден. Он обусловлен древней ролью мифов о неблагополучном. Эта роль – подчеркнуть собственное благополучие. Рассказ о чьей-то отверженности – это одновременно сообщение о собственной избранности. Свой мир легче всего утверждать на фоне антимира. Именно потому так важен Западу факт его отделенности от нас. Именно потому – вопреки демократическим принципам и здравому смыслу – в обозримом будущем нам не приходится ждать открытия ими границ. Политологи и историки справедливо отмечают, что важнейшим катализатором становления НАТО и Евросоюза был СССР. СССР больше нет, но НАТО и Евросоюз остались, как остались и их геополитические интересы. Почему же должна измениться сопровождающая эти интересы мифология? В этой истории я не искал бы конкретных виновников: уровень проблемы более цивилизационный, чем политический. В этом объяснение того, что в обозримом будущем мифология будет, по всей видимости, самовоспроизводиться.
С ответом на второй вопрос дело обстоит сложнее. Почему мы так активно убеждаем Запад в том, в чем он и без того уверен? Может быть, причина – в нашем молчаливом признании своего периферийного положения в мире (оно выражается многообразно – от захлестнувшей нас заимствованной лексики до планов строительства небоскреба в Петербурге)? Или мы просто привыкли к роли? По большому счету, на вопрос, зачем нам нужна эта мифология, я ответить затрудняюсь. Могу даже предположить, что она нам не нужна.
В заключение скажу о важной вещи, которую приберег напоследок. Да, отношение к краю ойкумены было по преимуществу негативным. Но нельзя вместе с тем не вспомнить и о противоположной тенденции, засвидетельствованной также с самых давних пор. Речь идет об идеализации, порой – сакрализации окраинных земель. Ведь как раз в пограничных местах помещались земли блаженных, там локализовался Рай. Обе традиции могли уживаться в творчестве одного автора, как это имеет место у того же Плиния, наряду со страшными чудовищами описывавшего счастливых гипербореев. Принадлежность к идеализирующей традиции позволяла видеть в России Эльдорадо и гнала сюда сотни тысяч западноевропейцев. Истории о сказочной жизни отрывали от родной почвы немцев и голландцев, итальянцев и французов и бросали их в наши суровые края. Это лишний раз доказывает, что миф – не абстрактная культурологическая категория, а вполне реальная сила.
В последнее время наряду с рассказами об ужасном в отношении России наблюдается очевидное возрождение идеализирующего мифа. Подобно негативному мифу, идеализирующий миф Запада имеет под собой определенную почву (объективное улучшение ситуации в России), но страдает теми же преувеличениями и кривизной. После стольких лет нищеты и бессилия гиперболизация нынешних богатства и силы может показаться лестной. Для национального самосознания даже – полезной. В каком-то ограниченном, реанимирующем смысле с этим, вероятно, можно согласиться. Но по большому счету это не так.
Дело не только в том, что всякое преувеличение ведет к разочарованию, что самолюбование для развития пагубно – это вещи очевидные. Важно и другое. У идеализирующей и негативной мифологий есть общая черта: и положительное, и отрицательное приобретает здесь ненормальные размеры. Мне кажется, мы созрели для более сложных, а потому – значимых ролей. И с прежними можно уже, в сущности, попрощаться. Уйти, смывая с себя на ходу ненужные краски.
«Соловьев и Ларионов»: вопросы к тексту [6]
Евгений, в вашем романе главный герой, стоя по грудь в море, которое он безумно любил, «испытывал сомнения насчет того, не в слишком ли интимных отношениях пребывает он с предметом своей любви». Сквозь иронию мне мерещится намек на Ваше отношение к литературе. Долгое время Вы держали дистанцию, изучали ее, любовались ею, сделались доктором филологических наук. И не потому ли Вы не спешили писать, что боялись слишком близких отношений с литературой? Что Вас останавливало?
Вы правы, к большой любви страшно прикасаться. Положишь ей руку на колено – и все разрушится, превратится в рутину. Иногда созерцательное отношение гораздо более чувственно. Оно учит ценить интонацию, случайное прикосновение. Вместе с тем созерцание не должно быть бесконечным, потому что плод дает все-таки не оно.
Развивая тот же образ, следует сказать, что прочный брак заключается в период духовной зрелости, а не половой. Так, на мой взгляд, и в литературе. Навыки создания текстов, как и возможность продолжения рода, человек обретает в довольно раннем возрасте. Но эти опыты – даже вполне состоятельные стилистически – еще не означают, что брак автора с литературой заключен. Важна духовная составляющая, некое силовое поле, в котором созданная конструкция оживает. Создание литературного произведения (поскольку всякий автор – демиург) неизбежно напоминает сотворение человека: в созданного из персти Адама вдувается жизнь. Делать глиняных человечков не так уж сложно, но ведь главная задача – заставить их двигаться.
Мне не близки произведения, в которых язык бежит впереди мыслей и чувств. Я не говорю, что это преступление. В конце концов, издается множество книг, являющихся, в сущности, феноменом языка или, точнее, стиля. Но содержание их обеспечено не столько личностью автора, сколько литературной традицией. Что касается меня, то большую часть своей жизни я писал научные работы – тексты, порожденные анализом материала и посвященные, прямо скажем, ограниченной области бытия. Когда я почувствовал, что в этом вагоне помещается не весь нажитый мной багаж, я попробовал писать и так называемые художественные вещи. Этот переход для меня тем более ощутим, что в одном из интернет-магазинов моя научная монография сейчас продается в разделе «нехудожественная литература».
«Соловьев и Ларионов» – ваш писательский дебют?
Не совсем, кое-что я писал и раньше. Был, например, у меня роман «Похищение Европы (история Кристиана Шмидта, рассказанная им самим)», стилизованный под «литературную речь», – своего рода протест против расхристанных текстов, которые так любили в 90-е. В нем вообще много разных протестов, и, на нынешний мой взгляд, он недопустимо публицистичен. Сейчас я бы так уже не писал. Мне вообще кажется, что лишь в последние годы я начал избавляться от инфантилизма. Знаете, у меня какое-то удивительно позднее взросление.
Считается, что писательство для филологов лежит в пределах прямой досягаемости. Это заблуждение. Филолог к нему не ближе, чем все остальные. Может быть, даже – дальше, поскольку умение производить текст он легко принимает за что-то большее. Стать представителем «профессорской» литературы было одним из главных моих страхов. Я и сейчас боюсь скатиться к литературе приема, всякий раз проверяю себя на способность над вымыслом слезами обливаться. Прежде всего – над своим собственным.
Получается? Представьте себе – да. В защиту корпорации отважусь напомнить, что и филологи любить умеют.
Один из главных героев книги – белогвардейский генерал Ларионов. Является ли его прототипом участник «Ледяного» похода Виктор Александрович Ларионов – впоследствии эмигрант, сотрудник газеты «Новое русское слово», или это случайное совпадение фамилий? Здесь – совпадение. Вместе с тем, как всякий уважающий себя герой романа, мой Ларионов имеет своих прототипов. Прежде всего речь может идти о генерале Якове Александровиче Слащеве и его литературном потомке – булгаковском Хлудове. Не обошлось тут и без Суворова, и даже без моего прадеда, Михаила Прокофьевича Адамишина, который ушел в Белую армию добровольцем. Годы спустя, работая в советской школе, прадед не отказывал себе в удовольствии представляться ветераном Гражданской войны. В подробности, впрочем, старался не вдаваться. Отблеск юродства, лежащий на всех перечисленных лицах, наиболее полно воплотился в изображенном мной генерале Ларионове. Говоря о юродстве, имею в виду самый его глубокий – духовный смысл.
В наши дни слово «юродство» несколько девальвировалось. Ведь юродство – это духовный подвиг, это образ жизни, мягко говоря, непростой, не всем доступный, крайне аскетичный, а мы чаще наблюдаем сегодня не юродство во Христе, а какое-то кривляние, желание просто самовыразиться и шокировать.
Юродство – это ведь не сумасшествие, как полагают некоторые. Смысл подвига юродивого, по словам одного церковного песнопения, – «безумием мнимым безумие мира обличить». Речь идет об особом состоянии духа, которое – вы совершенно правы – вело человека к суровой аскезе: ношению вериг или хождению круглый год босиком. Но юродство – это больше, чем отказ от своего тела. Это отказ от собственной личности: вот он я, ничто, прах земной – сплю на мусорной куче, ем с собаками, меня и нет почти. Юродивый полностью растворяет себя в Боге, потому он – человек Божий.