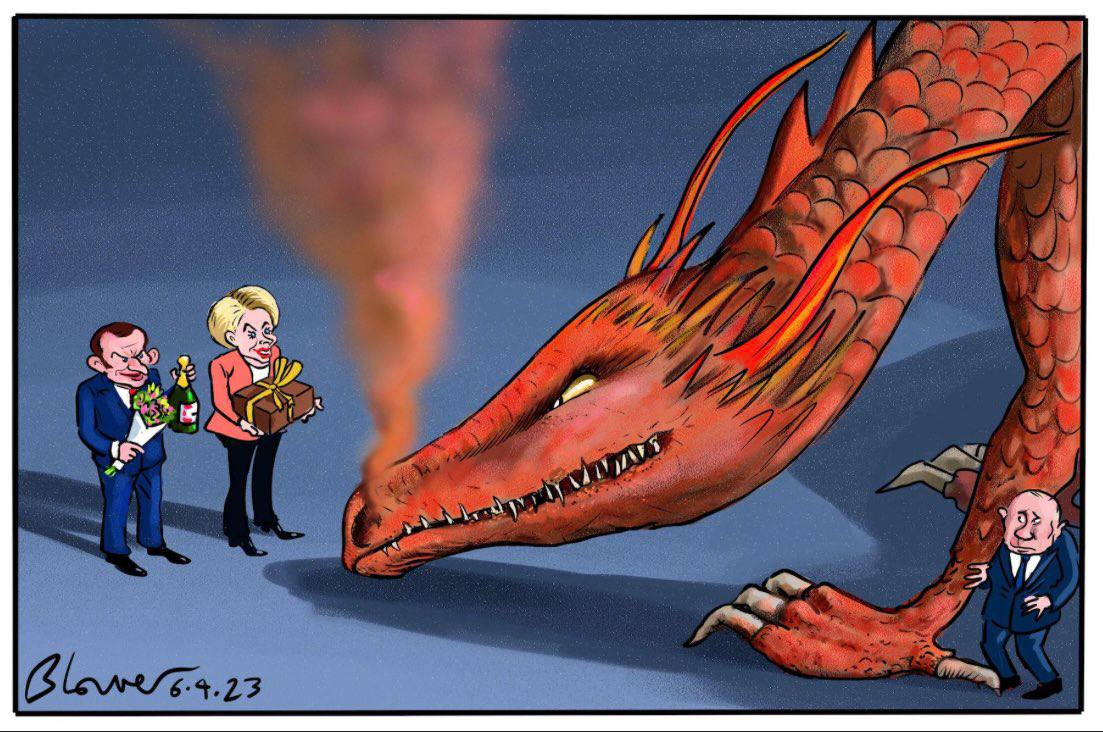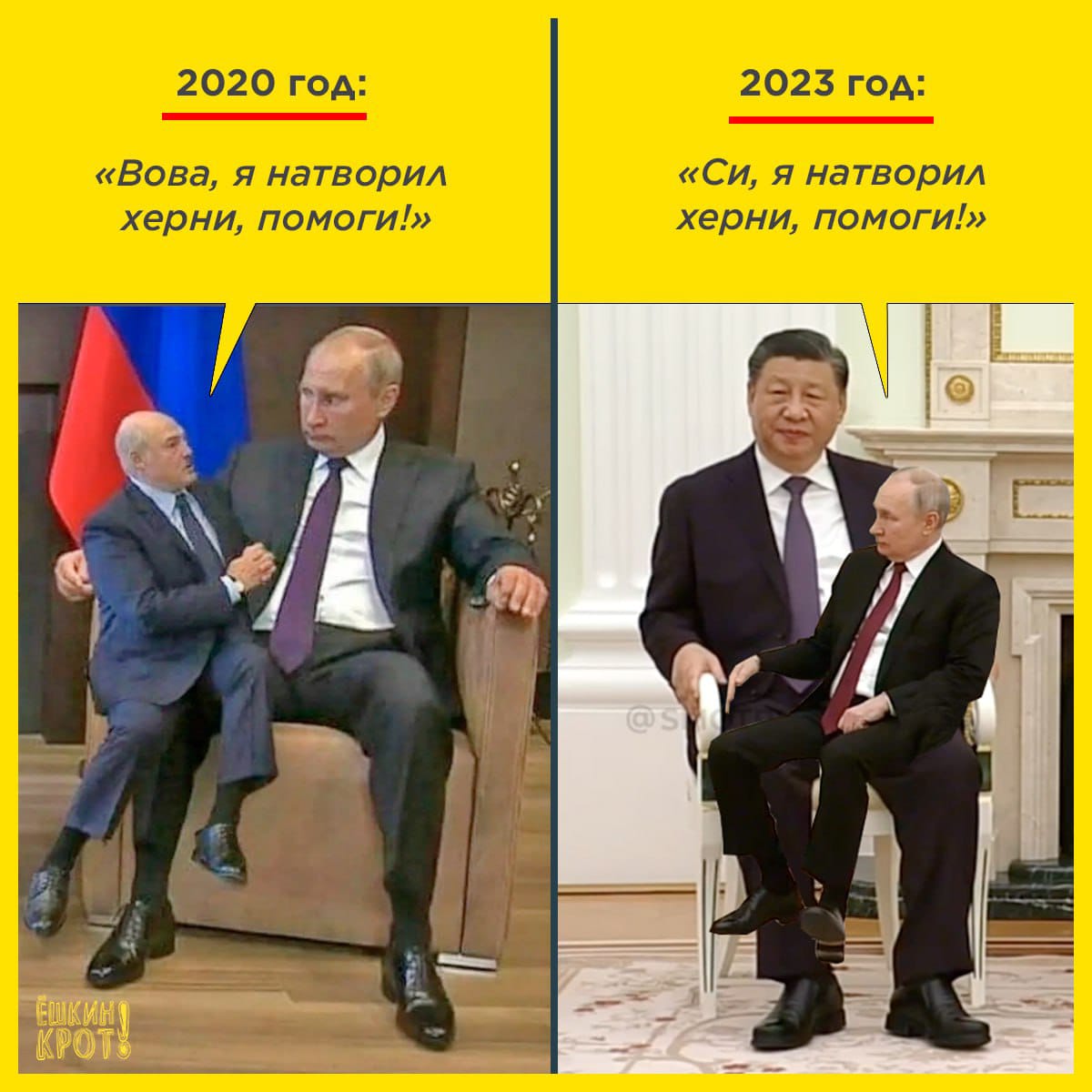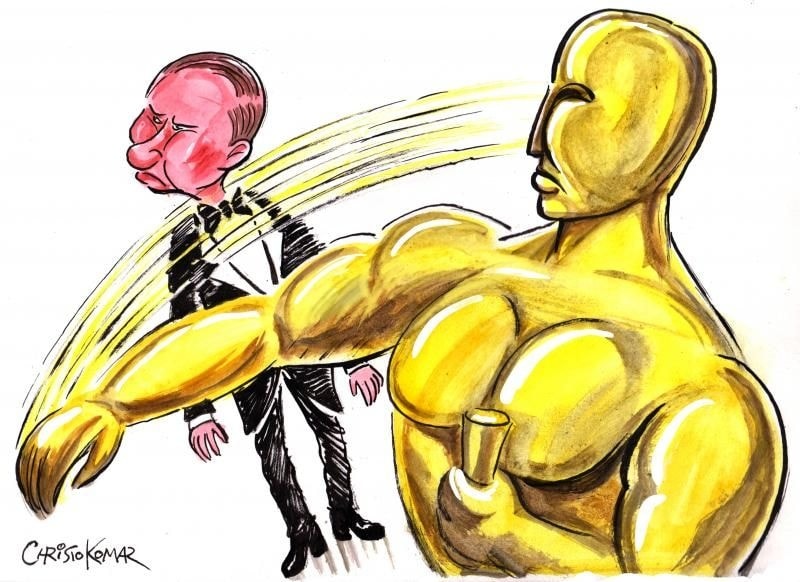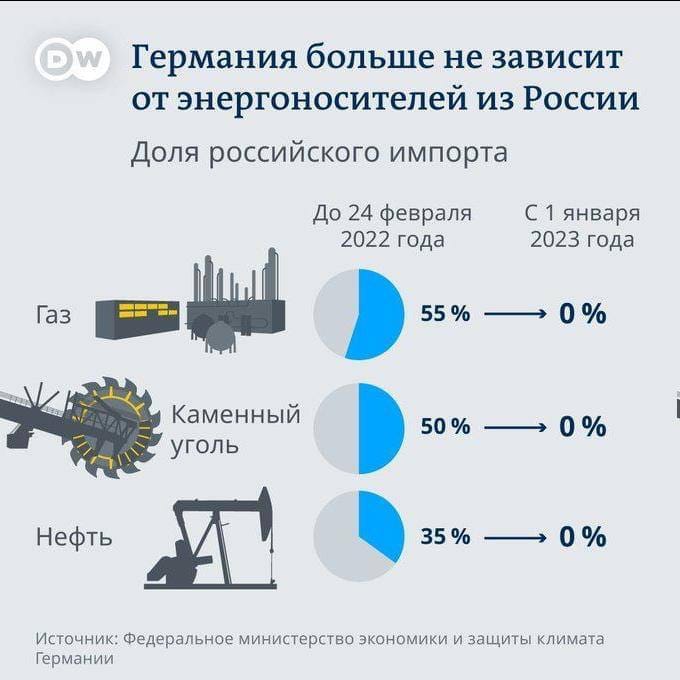кому-то — вторую, сроки дифференцировались [и они не были огромными]. Потом по второй части стали выносить более суровые приговоры — до девяти лет. А после этого в ходе следствия тем, кто раньше имел первую часть, ее переквалифицировали на вторую. То есть речь шла о некоторой унификации практики. Это могло быть сделано спущенным сверху циркулярным письмом. Но есть ощущение, что здесь установки транслируются несколько иначе. Ведь в основном у нас [в России] происходит так: появляется какой-то «установочный» приговор и потом остальные [судьи] смотрят на это первое решение. Здесь ведь тоже очень многое делается по образцу: некий судья придумывает формулировку, она ложится в приговор и дальше кочует из этого приговора в другие. Можно ли назвать происходящее сейчас в России «массовыми репрессиями»? Давайте сравнивать. В 1970-е годы приговоров по антисоветским статьям — 70-й и 190-й («антисоветская агитация и пропаганда» и «распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй») — было несколько десятков каждый год. И сотни уголовных дел, возбужденных за год, за 2022-й и начало 2023-го, — много больше, если сравнивать с брежневским временем. Давайте еще учтем, что численность населения России примерно вдвое меньше, чем была в СССР, — и тогда [в расчете на одного жителя России заведенных дел] получается еще больше. В хрущевское время за антисоветскую агитацию в 1957 году репрессировали 1796 человек, в 1958-м — более тысячи, а в 1959-м — около 800. В первый же год правления Брежнева эта цифра резко упала: в 1964-м [их было] около 240, в 1965-м — около 40. То есть мы находимся уже не в брежневском, а в хрущевском времени, если судить по числу подобных дел, возбужденных «за слово». Если говорить о массовых репрессиях конца 1930-х годов, нужно сразу отметить: это были массовые операции, осуждения по «категориальному» принципу: классовому, сословному, национальному — по принадлежности к категории. Это было конвейерное правосудие с использованием, в частности, «троек», когда обычные судебные процедуры не применялись. И «производительность» системы действительно была велика. За 1937–1938 годы расстреляли около 800 тысяч человек. После этого включили другой режим работы системы. После снятия [наркома внутренних дел СССР Николая] Ежова и замены его на Берию [в конце 1938 года] массовые осуждения отменили. Они вернулись только на территориях, вновь присоединенных к СССР (в частности, в отношении поляков — катынский расстрел). Но на основной, «старой» территории СССР такого уже не было. Тогда даже была введена процедура визирования смертной казни на уровне специальной комиссии ЦК. Это способствовало тому, что маховик репрессий не слишком раскручивался — работал, но на меньших оборотах. Повторения этого боялись и после смерти Сталина. После Венгерского восстания при Хрущеве политбюро ЦК КПСС закрытым письмом от 25 декабря 1956 года запустило репрессивную кампанию, боясь повторения [событий в Венгрии] — того, что и в СССР начнут вешать на столбах коммунистов и чекистов. Затем они сами испугались результата. Выше я приводил абсолютные цифры [приговоров по антисоветским статьям], и соотношение между годами впечатляет. В 1957 году число дел «за слово» выросло в четыре раза по сравнению с 1956-м (такой же четырехкратный скачок был в 1937-м по сравнению с 1936-м). Это пугало ЦК: они ведь еще помнили, как совсем недавно тех, кто стоял у ручки мясорубки, могло затянуть внутрь. И руководство СССР попыталось выработать новый способ контроля общества — без массовых репрессий. Это решение в 1959 году нашел Николай Романович Миронов, начальник управления КГБ по Ленинграду и области, ставший в том же году начальником Отдела административных органов ЦК КПСС. Его идея состояла в том, чтобы не сажать массово, а «профилактировать», то есть применять внесудебные методы воздействия: исключение из комсомола или вуза, срочный призыв в армию, увольнение с работы. Иногда ограничивались «беседами», понуждением подписать покаянное письмо. При этом с 1960 по 1986 год на одного осужденного по политическим 70-й и 190-й статьям, с которыми мы можем сравнивать статьи 207.3 и 280.3 (статьи УК РФ о «фейках» о российской армии и повторной «дискредитации», повлекшей «опасные последствия»), приходилось около ста «профилактированных». В итоге за этот период по политическим статьям были репрессированы около 10 тысяч человек, а «профилактированных» было, соответственно, около миллиона. То есть сажали вроде как сравнительно мало, но «газонокосилка» профилактики проехалась по мозгам миллиона человек, которые в 1990-х [если бы этого не случилось] могли стать будущей элитой «новой демократической России». Вернемся в наше время. Что мы увидим, если сравним сталинские практики с современными? Для категориального осуждения необходимо, чтобы человек состоял в каком-то списке, относился к какой-то категории. Например, имел отношение к организации, признанной экстремистской или террористической, находился в какой-то базе, на каком-то учете: например, в экстремистском реестре или в реестре «иноагентов». Наличие масштабных списков людей — ресурс для запуска массовых репрессий. И этот ресурс есть. Но пока что нет команды на массовые репрессии. И непонятно, на какой режим может быть настроен репрессивный механизм. Сегодня человек, получающий административный штраф за «дискредитацию армии», оказывается, что называется, «подвешен за ребро», потому что при повторной «дискредитации армии» он уже получит уголовное наказание. То есть у нас такое сочетание административного и уголовного наказаний стало аналогом «профилактики», подкрепленной репрессиями (точно так же, как когда-то «дадинская» статья за неоднократное нарушение законодательства о митингах). Так получилось, что, может, и не желая этого, власть воспроизвела ситуацию 50-летней давности и современная структура репрессий у нас напоминает позднесоветскую, хрущевско-брежневско-андроповскую. Добавим еще два обстоятельства. Во-первых, в СССР была смертная казнь, и ею, в случае чего, можно было угрожать. Сейчас ее формально нет, но есть политические убийства. Как системный фактор они существовали в России и в 2000-е годы. А по крайней мере со второй половины 2010-х существует система отравлений [оппонентов власти сотрудниками спецслужб]. Де-факто это не введенная официально смертная казнь. А внесудебные казни на Северном Кавказе — и в ходе так называемой «контртеррористической операции», как называли вторую чеченскую войну, и вплоть до настоящего времени — это отдельный разговор. Это уже скорее аналог массового террора, если считать по числу жертв по отношению к населению. Во-вторых, добавим такой фактор, как условия содержания в следственных изоляторах и местах заключения. С этими двумя добавочными составляющими мы получаем возвращение к репрессивным практикам брежневского времени, а если судить по числу возбужденных уголовных дел — ко времени хрущевскому. Что нам позволяет говорить об усилении репрессий? Запуск «спящих» статей Уголовного кодекса, как в случае [Владимира] Кара-Мурзы, например. Включение [в Уголовный кодекс]