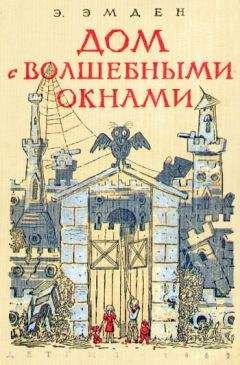Мне захотелось прочесть рассказ Недугова, но голова не тем была занята. Страшные слова «Мало Сталина» сверлили мозг, заслонили весь свет. Только что я был весел, бойко отделывал очередную статью, собирался зайти в отдел информации за Панной и пойти с ней в ресторан обедать, как мы продолжали ходить каждый день, а тут на те… Чумак роет носом, очерки изучает.
К Панне я зашел, и мы с ней отправились в ресторан «Динамо». Как только вышли из редакции, сказал ей о Чумаке. Она махнула рукой:
– А ты, как только он тебя обвинит, выходи на трибуну и благодари его. Скажи, что это мое серьезное упущение, и я, сколько буду работать в журналистике, никогда не забуду об этом и уж больше не совершу такой серьезной ошибки.
Она рассмеялась и добавила:
– Мой муж работал с ним в журнале «Коммунист». Так Чумак и там все кидал такой упрек: «Мало Сталина». Здесь он тоже… Человек уж так устроен.
И еще сказала:
– Маленький он, ниже меня ростом, и делать ничего не умеет. Они, такие-то, все себя чем-нибудь да утверждают. Чумак и схватился за это, пугает всех.
Панна взяла меня за рукав, потрепала:
– Да ты не трусь. Не было еще того, чтобы по такому обвинению замели кого-нибудь. Не было!
– Спасибо, Панна. Ты камень свалила с плеч. Я-то уж сухари сушить собрался.
Потом уже за столом в ресторане признался ей:
– Вот штука какая! На войне снаряды рядом рвались, пули жужжали, а такого беспокойства, как здесь, не испытывал. От какой-то пустячной заметки, если что не так, вся душа изболится, места себе не находишь… А?… Как это понять и объяснить?
– А так и понимай: совестливый ты больно. И гордый. Во всем первым хочешь быть, а это зря. Живи как живется, люби вот, как Турушин, хороший бифштекс, ходи на стадион, на футбол, заведи любовницу…
– Разве что? Так я и жить буду.
Удивительно хорошо мне было с этой женщиной. Вот сказала несколько слов, а я снова свет увидел. И думать забыл о Чумаке. И в будущей своей жизни не раз мне придет в голову мысль о пагубе страха. Стоит его запустить в сердце, как тебя всего изъест, жизни лишит. А поразмыслишь на трезвую голову – дело-то выеденного яйца не стоит. Очень это важно – стоять на страже и не пускать в душу страх.
На следующий день я позвонил Панне и сказал, что иду обедать и что если она хочет, подожду ее у выхода из редакции. Мы встретились и не спеша пошли в ресторан. В природе догорал первый осенний день, листва на деревьях приобрела золотистый цвет, местами отрывалась и лениво падала, устилая землю солнечными пятнами. Мы шли и думали каждый о своем. Я перебирал в уме способы мщения Чумаку – за Недугова, за тех ребят-журналистов, которым он попортил много крови. И, повернувшись к Панне, проговорил:
– Как бы угомонить этого мерзавца?
– Ты о ком – о Чумаке?
Она, кажется, впервые назвала меня на ты. И продолжала:
– А я придумала, как это сделать. Выступлю на собрании и выскажу все, что о нем думаю.
– Ни в коем случае! – испугался я. – Не надо этого делать!
– Да почему? Сколько же можно его терпеть? У меня козыри есть: расскажу, как он травил тем же способом журналистов в «Коммунисте». И скажу, что если не прекратит шантажировать людей, напишу письмо Сталину. Иосиф Виссарионович знает моего мужа, и он мне поверит.
– И все-таки не советую этого делать. Боюсь за вас.
– Опять боюсь, опять страх! Ну, и мужик ныне пошел! Вы как с войны вернулись, так и в трусишек превратились. Видно, страху там натерпелись. Я на войне не была, а вот теперь начну воевать.
Собрание состоялось в тот же день вечером. Чумак выступил с длинной речью и много говорил о моих очерках. Он находил, что писать я умею, но стиль мой несерьезный, «такой легкий фривольный стиль…» Почему-то так и сказал: «фривольный». И прибавил: «Эти два притопа, три прихлопа не годятся для центральной газеты». А вот ярлык «Мало Сталина» Чумак припас для другого журналиста – специального корреспондента, недавно окончившего политическую академию, майора Камбулова. Чумак, «разгромив» меня, сделал паузу, набрался духу и пальнул своим главным снарядом:
– А вот у Камбулова мало Сталина! – и он поднял высоко над головой газету, очевидно с очерком Камбулова, и долго тряс ею, угрожающе оглядывая нас светло-голубыми водянистыми глазами. И потом с видом Наполеона, одержавшего очередную победу, сошел с трибуны.
Не успел Чумак вернуться на место, как с первого ряда поднялась Панна и, не спрашивая разрешения председателя, направилась к трибуне. Шла, не торопясь, приподняв свою круглую, хорошо прибранную головку. И так же неспешно обвела взглядом своих прекрасных глаз сидящих товарищей. И сказала так:
– Я беспартийная, и поднимаюсь на эту трибуну первый раз, и хочу сказать несколько слов в защиту тех, кому так жестоко наносится душевная травма. Мне мой муж рассказывал, что, когда он работал в «Коммунисте», у них был сотрудник, который ничего не умел делать, но зато одной только короткой фразой мог больно ранить журналиста. Он для своих ужасных спекуляций использовал имя святого, всеми любимого человека. Ну, сотрудникам надоело терпеть от него обиды, и они обратились к редактору с просьбой освободить их от этого тирана. Редактор его уволил, но он попал в еще больший редакционный коллектив и с прежней яростью продолжает терроризировать товарищей. К сожалению, из мужчин еще не нашлось смельчака, который бы поставил его на место. Но я заявляю, что если этот зловредный человек, который еще имеет обыкновение других называть «гавриками», не утихомирится, я приму к нему решительные меры.
И сошла с трибуны. Собрание словно онемело. Как деревянный, сидел и председатель. Потом раздались смешки, зал оживился и кто-то даже захлопал в ладоши. Все знали, кто недавно сотрудников отдела боевой подготовки назвал «гавриками», и знали также, что Чумак пришел в «Сталинский сокол» из «Коммуниста» и что с ним «произошла какая-то история».
К Чумаку потом никто не возвращался, а забегая вперед, скажу: его как бабка заговорила – он после этого уж никому не вешал страшного ярлыка. И вес его в редакции упал до нуля – его уж никто не принимал всерьез. Да, кажется, и на собраниях он больше не выступал.
Панну и без того уважали в редакции, но после этого эпизода ею восхищались. Я же, очутившись с ней наедине по пути в ресторан, прижал к себе ее головку и крепко поцеловал в щеку. Она покраснела, глаза ее сияли, из чего я понял, что мой поцелуй ее не обидел.
Я теперь не только восхищался ее внешностью, но и глубоко уважал за ум, благородство и смелость.
Как-то я сказал ей:
– Я, кажется, полюбил тебя, Панна. Что же делать мне со своей любовью?
– Она ответила просто и – загадочно:
– Это счастье, если к человеку приходит любовь.
Некоторое время мы шли молча. Потом, сияя своими грустными глазами и ослепительно улыбаясь, добавила:
– Мне твоя любовь не мешает.
А через минуту еще сказала тихо и сердечно:
– Совсем даже не мешает.
Видеть ее каждый день, слышать ее голос, ходить с ней в ресторан – это было действительно счастье, – еще одно счастье в моей жизни. И не знаю, что было для меня важнее: тихая, мирная семья с моей Надеждой – юной северной красавицей, блондинкой в отличие от Панны, прелестной дочуркой Светланой, которая со слезами провожала меня на работу и с криками радости встречала, или дружная семья товарищей в редакции, где меня все больше и больше любили, по крайней мере мне так казалось, или все более тесное общение с русским языком, который мне, едва я склонялся над чистым листом, заменял все радости жизни и был самым близким другом, источником восторга и упоения, или, наконец, Панна, эта мудрая, как дюжина старцев, недоступная, как вершина айсберга, и чистая, как небо над северным полюсом, женщина? Пожалуй, все это вместе взятое и было счастьем моей новой жизни – в Москве, в редакции газеты «Сталинский сокол».
Перед отъездом в Латвию меня пригласил главный редактор. Он, как и обыкновенно, сидел за своим огромным дубовым столом, читал гранки. Со мной говорить не торопился, давал время собраться с мыслями, успокоиться и затем на холодную голову воспринимать все, что он мне скажет. А мое чуткое сердце слышало, что командировка моя, которую он на вчерашней летучке уже назвал «большой командировкой», и раза два повторил: «Важная, очень важная командировка предстоит нашему молодому сотруднику», будет весьма непростой.
Редактор уже не звал меня новичком, но неизменно называл молодым, потому что для такого старого, крепко сбитого коллектива журналистов я действительно был до неприличия молодым: мне в то время едва исполнилось двадцать шесть лет. Редакционный коллектив знал, что я должен «писать серию очерков и писать так, чтобы в них была видна летная работа, то есть действия летчиков в воздухе» – эту задачу редактор повторил уже несколько раз, но особую важность предстоящая командировка приобрела с того момента, когда редактору позвонил генерал Сталин, – а до этого он никогда ему не звонил, – и сухо, почти приказным тоном, попросил включить в группу его офицеров корреспондента. Васю Сталина в армии боялись, – пожалуй, все, кроме, разве что, министра Вооруженных Сил маршала Василевского. Боялись и редактора центральных военных газет. Любой чин армейский, включая министра, если и позвонит редактору, что случалось крайне редко, то говорит вежливо, тоном хотя и высокого, но культурного человека. Иное дело Вася Сталин – сын Владыки, чья власть распространялась на весь мир, а авторитет был почти мистическим.