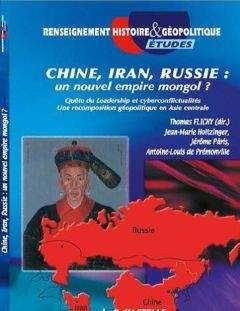Для русской песни нужны особенный настрой, зажиг, напряг; песня ждет своей поры, подпирает человека изнутри, она рвется наружу из подвздошья, как из клетки, ей, как и человеку, нестерпимо хочется воли. И чем меньше воли в России, тем скуднее чувства; как редко нынче запоют в застольях, уже за чудо услышать песню на лугу иль в поле, на околице деревни, у реки. Это замирает, скукоживается, мертвеет наша национальная сущность. Вот будто властный и злой чуженин пришел на Русь со своим уставом и иначит, кроит народ без устали на свой лад, опошляет всё, к чему бы ни прикоснулись его руки.
Беломорье — удивительно притягливое место, заповедная страна для живописца, литератора, журналиста, музыканта, — и вообще для всякого человека с художной душою и творческим воображением. А, казалось бы, чего тут занимательного и замечательного в этом мглистом низком небе, чахлых елушниках, коряво поклонившихся ветру-падере, унылой равнине моря и долгих болотах, уходящих в полуночную сторону, — бодрому взгляду не за что зацепиться. А поди ж ты, именно этот, забытый Богом, окраек России и хранил от веку исконное русское слово во всём богатстве. Как ни говори, но песню, этот выплеск души, рождают не только голосовая вопленная труба, не только тот таинственный неведомый орган, зовомый душою, не только мистическая непознанная история края, но и то особое состояние воздуха, солнца и земли, которое образуется порою в природе и неисповедимым образом наполняет сердце счастливо рвущейся на волю хмельной силой… Подобно янтарной бражке, песня ярит кровь и вскруживает голову. Это состояние опьянения поморской песнею испытал, наверное, каждый, кто певал хоть однажды в деревенском застолье…
Однажды приехал в Поморье записывать народные предания Петр Сазонтович Выходцев — ученый, широко известный в русских кругах, которого люто кусала за пятки либеральная братия, очервившаяся в коридорах ЦК на Старой площади, лишь за то, что человек бойцовской закваски взялся издавать полное собрание сочинений великого Достоевского. Казалось бы, хвалить надо и всячески спопешествовать замыслу; но они так злобно, с такими бесовскими уловками принялись изводить и мочалить человека, испытывая особую радость от проделок, таких препон и рогаток выставили на пути, что раньше сроку свели сердешного в могилу, и только тогда приуспокоились, когда полностью истерли имя патриота из общественной памяти. А ведь Выходцев-то был из себя складу бравого, богатырского, характера непоклончивого и внешне, да и натурою весьма напоминал сибиряка Георгия Куницына. Семнадцати лет будущий "черносотенец, красно-коричневый, шовинист и антисемит" Выходцев, приписав себе два года возраста, ушел на фронт, а вернулся с войны с двумя орденами Славы. Третий орден Славы ему не дали, ибо убежал старшина Выходцев из госпиталя самоволкою на фронт в чужую часть. Вот таким был наш герой, пригласивший меня в фольклорную экспедицию за песнями…
Путь наш был от Неноксы по Летнему берегу Белого моря: Ненокотский посад, Красная Горка, Уна, Луда, Дураково, Сумской посад…
Помнится, как пришли бабени в первый день, все затрапезного виду, неловкие, виновато склоненные долу и всполошенные, прячущие изработанные руки под передник. Они казались тогда чужими друг другу, хмуро косились на нас, дескать, от заделья оторвали, от домашней обрядни, скоро сын на обед — а ещё и чугуны в печь не ставлены; мол, и поем-то нынь редко, все песни перезабыли, и голос не бежит, гарчит по-вороньи, — только людей добрых смешить; и жилы в руках-ногах стогнут, которую, уж ночь не сплю; и корка-то у пирога нынче ямой получилась, знать, к близкой смерти; и девку вот малу, внучку востроглазу, не с кем оставить дома, оборони Господь, чтобы огня не заронила… Отказывались петь с каким-то нетерпением, на готовно подставленные стулья присаживались косенько, на одну усохшую подушечку, готовые тут же вскочить при первом поперечном слове и бежать прочь. А Домнушка, хозяйка избы, меж товарок мохнатым шмелем вилась, гудела, умасливая и растапливая недоверие:
— Вы что, бабоньки, уж никотора и петь не умеет? А петь-то, христовенькие, велико ли дело, я вас мигом обучу. Рот коси, да головой тряси — вот и песня. Будут думать, что поёшь.
— Когда поёшь, то распоёшься. А если не петь, то исключительно на лёгкие выходит, — возразила Параскева, сгоравшая от ревностной обиды, что вот Домнушкину избу облюбовали под спевку, а не её дом. — У меня в груди жженье, я уж петь не буду, как ты хошь. — И с таким вывертом, по-извозчичьи матюкнулась, что даже старухи потупились, зарделись. Ну, Домнушка и упрекни:
— Женщина матюкнётся — дак мать пресвятая Богородица на престоле не усидит.
— Не тебе меня и учить, трясогузка хренова! — отрезала Параскева и умчалась, только её и видели.
И как ни обихаживал Выходцев — и чаем-то обнесли, и конфетами потчевали городскими, — однако все старухи друг по дружке пошли из дому прочь.
— Если уж Параня петь не будет, то и мы не запоём.
А погода была слякотная, мрачная, дымная хмарь стояла низко над деревней, пригнетала сердце. Уж какое тут петьё…
И вот всЁ так Чудесно устроилось, и солнце огненного расплава всплыло ныне, и Параскева Николаевна внезапно сменила гнев на милость. Пришла в шубейке зеленого атласу да в штофной юбке до пят, да в парчовой повязке, унизанной бисером, — ещё от матери-покоенки лопатина досталась, на дне сундука дожидалась случая. И вот случай тот привёлся.
Ещё с порога завыхваливалась Параня:
— Ой, всё б я пела, всё б играла, всё бы веселилася, всё бы под низом лежала, всё бы шевелилася! Ой, мяконька, така молочна песня!
Параня уселась на венский стул, высоко задирая штофную юбку, чтобы не измять, и я увидел белые солдатские кальсоны, завязанные на щиколотках поверх шерстяных головок.
Восемь женщин — все внешне разные и годами, и обличьем, и повадками, но и неуловимо схожие выраженьем добросердечия, которое отличает даже самую некрасивую деревенскую старуху, — переговаривались отчего-то тихо, словно бы стесняясь, почти шепотом, а может, настраивались душою, отыскивая в себе то настроение, которое и рождает песню.
— Я и сама-то как одна жила, с вечера запою и напеться не могу, — Домнушка всхлипнула, закомкала передник. — Бывало и ночь пропою. Народ-то идёт мимо избы, говорят, что эко Домнушка — не с ума ли сошла.?
— Глупа, как есть глупа, — сурово обрезала Параскева. И засмеялась.
— Я-то глупа, — покорно согласилась Домна, — но и ты порато не кричи. Как ворона: кар-кар…
— Эй, бабоньки, — поднялся за столом Петр Сазонтович, остерегаясь грозы. Вроде бы всё шло на лад, и вдруг обвал. Вот сколь народ поперечный. Но солнце ломилось в избу, масляно растеклось по полу, и смута, едва народившись, сникла.
— Куда деться мне, коли так вырывается, — смиренно сказала Параня, и товарки облегченно вздохнули. Слава Богу, пронесло. — Нам бы по стопарику грянуть, а то голос шибко секется. Я ныне тонким не могу, редко пою, вот голос и гарчит.
— Ой, мы когда выпьем, дак голосишко у нас и побежит, — призакрыв глаза куриными веками, сладко протянула Домнушка, как будто уже причастилась церковным кагорчиком. — И побежит тогда, сам польётся. Её вывести надо, ей после надо разбежку дать, христовенькой разлюбезной песенке нашей, да чтоб она взыграла, да после, чтоб сама по себе и вилась, скакала-поскакивала. Иль не так, деушки?
— Всё так, — согласились спевщицы, и лишь Параня не преминула слово своё веское выставить, чтобы о ней постоянно помнили, на неё равнялись:
— Песне натура нужна, по народу и песня. Вы в какую деревню ни поезжайте, а вам ту же песню да по-другому выведут. Вот мезенки, те более круто заворачивают, нам с ними не по дороге. Если по-ихнему пахать, то леший знает, куда выведет ту борозду.
— Может, попробуем, споём, — искательно попросил Петр Сазонтович. Бабы согласно запотряхивались, заощипывались, словно бы на пляс попросили выйти, и с лиц, только что кирпично-бурых, морщиноватых, вмиг слиняло оживление, каменно напряглись скулы и в изгибы выцелованных губ легла та особого свойства грусть, с которой начинается и настраивается любая русская песня.
Чувство ожидания в нас, оказывается, было столь сильным, так напряглась душа, что когда колебнулась первая волосяная струна, исторгнув лишь призрачное напоминание звука, что я невольно вздрогнул сердцем. Это Домнушка слабосильным издерганным тенорком пугливо подступилась к песне, попробовала зачин на слух и, словно бы побоявшись одолеть его, тут же и споткнулась, плотно свела губы в голубенькую оборочку, стыдливо оглядывая товарок и сзывая на подмогу. Не умерла песня; поймала Параня волосяную струну и на самом крайнем её дребезжании вновь колебнула хрипло, басовито, по-мужицки:
Ты,талань моя, талань,
Талань-участь горе-горькая…
И тут подхватились, встрепенулись, очнувшись от оторопи, будто в трубы ударили восемь бабьих изношенных голосов, но сведенные воедино, они так грянули, что тесно стало в горнице, и окна в тугих переплетах звякнули готовно, радые выломиться наружу, чтобы выпустить на волю песню.