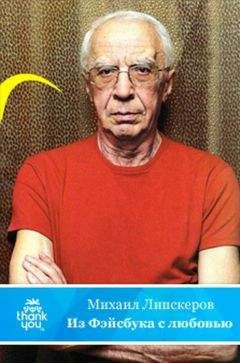Ознакомительная версия.
Именно в ощетинившееся захолустье, завравшееся и зарвавшееся, без устали гордящееся своей способностью — неважно, мнимой или реальной — устроить вселенскую смазь в мировом масштабе. А ведь тупость и неповоротливость в сочетании с проворной шкодливостью на многое способны, это правда.
Принято считать, что всем этим правят и рулят либо деньги, либо политические и человеческие амбиции.
Это отчасти так и есть. Но мне кажется, что тут еще и “строку диктует чувство”. И это чувство — неоформленное, властно ищущее выхода наружу — чувство иррациональной, неконтролируемой, хотя и умело направляемой ненависти. А ненависть всегда первичнее, чем ее объекты, которые подворачиваются под руку сами собой.
Эта никогда не удовлетворяемая похоть обрастает, оформляется, обеспечивается любой валяющейся поблизости идеологией или чаще плотным тупым мифом — чем более бессмысленным и более отдаленным от базовых категорий современного мира, тем он надежнее и соблазнительнее.
На всем практически протяжении российской истории “Мы лучше всех” меняется время от времени на “Мы хуже всех”, а потом обратно. Меняется всегда неожиданно, всегда стремительно, никогда не оглядываясь по сторонам и не отвлекаясь по пустякам, всякий раз проскакивая, зажмурившись, мимо вроде бы очевидного, но при этом мучительно невыносимого “Мы как все”. Так же примерно, как неисправный лифт не может остановиться на нужном этаже, всякий раз то поднимаясь выше его, то опускаясь ниже.
В этой вечной “неисправности лифта” тоже кроется одна из причин стремления к изоляции.
Изоляция — это легитимация беззакония и произвола, потому что больше некого и нечего стесняться, не своих же людишек в конце-то концов.
Это бунт пациентов психушки против медицинского персонала. В случае успеха можно не только самим окончательно уверовать в то, что “мы тут и есть самые настоящие наполеоны и македонские, а также Чингисханы и Тамерланы”, но и вполне безнаказанно, всеми способами, включающими прямое насилие, внушать это окружающим.
Это узаконенные этика и эстетика лагерного барака, одичавшей дворняжьей стаи или дворовой кодлы, где никакое право, кроме права силы, наглости, рептильной изворотливости и тупого нахрапа, даже и не рассматривается как сколько-нибудь серьезное.
Стремление к изоляции и стремление к ее преодолению во все времена делили общество на две неравные части. А сама изоляция — то укрепляемая, то ослабеваемая — в разные времена приобретала разные эстетические, стилистические признаки.
Так же, как менялся на протяжении моей жизни внешний вид изоляционных лент, которые электромонтеры называли просто “изоляцией”. В раннем моем детстве эти ленты были одинаковыми — темно-серыми, мрачными и аскетичными. Чуть позже появились и синие. В 70-е годы появились и синенькие, и красненькие, и зелененькие, но купить их было трудно, как, впрочем, и все остальное.
В наши дни вещественным символом изоляции стали повсеместно бросающиеся в глаза полосатые ленты, посредством которых пытаются хоть как-то укрепить расползающийся по всем швам картонный ящик, густо обматывая и обвязывая его со всех сторон этими изолентами.
Есть такая расхожая фраза: “У этой страны нет будущего”.
Сейчас эта стертая формула как-то почти узаконена. Причем на самом высоком уровне. Категория будущего в официальной риторике практически отсутствует.
В СССР когда-то изо всех сил, изо всех родов оружия культивировался миф “светлого будущего” (а симметрично — и “проклятого прошлого”), и именно этому утопическому идолу многие годы приносились изобильные жертвы, в том числе и человеческие.
Но этот же миф, эта утопия сумели подстегнуть к вполне реальным и искренним творческим порывам множество молодых и немолодых людей, соблазненных и одержимых пусть и не совсем внятной, но от этого еще более интригующей идеей “нового мира” и убежденных в том, что и форма, и содержание этого грядущего мира будут во многом зависеть от их усилий, от их личного и коллективного энтузиазма.
Пропагандистская риторика тех лет, базировавшаяся на адаптированном к нашей неизбывной самобытности марксизме, оперировала, с одной стороны, такими зловещими категориями, как диктатура, пусть даже и пролетариата, с другой же — такими, как, например, научное мировоззрение. А потому культивировалось почтительное отношение к науке вообще, да и к культуре тоже. А если то или иное направление в науке третировалось как “лженаука” или даже “продажная девка империализма”, это лишь подтверждало неподдельный интерес и отеческую заботу государства о “самой передовой науке”.
Ну, и будущее, разумеется. И оно, будущее, всегда было важнее настоящего, каким бы лучезарным это настоящее ни представало со страниц газет и в кинохронике. Настоящее всегда было лишь прологом к уже окончательно совершенному будущему, постоянно маячившему в исторической перспективе, как вожделенная морковка перед мордой осла.
Сначала “будущим” был социализм, который строили в одной отдельно взятой стране. В какой-то момент строить его надоело, и было объявлено о его полной победе, а также о том, что жить стало лучше, жить стало веселее. Это спущенное сверху бурное веселье, явленное в виде кинокартины “Волга-Волга” и Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, непринужденно сочеталось с энергичными мероприятиями, связанными с обострением классовой борьбы, которая с каждым годом обострялась настолько, что в огромной стране уже не хватало мест для новых лагерей.
Это время, впрочем, я знаю в основном по книжкам, фильмам и воспоминаниям родителей.
А вот начало 60-х, когда общим фоном социальной жизни служил плакат “Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме”, я уже помню отчетливо. По поводу коммунизма было множество дискуссий. Не только публичных, но и, так сказать, частных. Не о том, разумеется, спорили, наступит он или нет на самом деле — это-то как раз не обсуждалось, а подразумевалось само собой, — а о том, каким именно он будет.
Одни (их было большинство) видели коммунизм как универсальную и всеобъемлющую халяву, где всего до хренища и все бесплатно. Другие (их было меньшинство) понимали его как окончательное и бесповоротное торжество разума, нравственных начал и свободного творческого труда, как избавление от предрассудков и родимых пятен “проклятого прошлого”. Одним словом, ни болезни, ни печали, ни воздыхания, как было сказано намного раньше и, в общем, по несколько другому поводу.
Писатели-фантасты тех лет — те, которые из “прогрессивных”, — изображали будущее как мир, заселенный исключительно умными, честными, сильными, храбрыми, при этом веселыми и остроумными людьми, лыжниками и туристами с рюкзаками и гитарами. Грядущее человечество выглядело там как разросшийся до глобальных масштабов дружный коллектив какого-нибудь научно-исследовательского института 60-х годов.
Про коммунизм было также и множество остроумнейших анекдотов. Особенно привлекательной для устного народного творчества была повсеместно употребляемая формула, обозначавшая основной принцип коммунистического общества: “От каждого по способностям, каждому по потребностям”.
Больше шуток было, разумеется, не про способности, а про потребности, что и понятно, если учесть скромный, мягко говоря, уровень тогдашнего товарного обеспечения — “снабжения”, как тогда говорили.
Мне запомнился такой, например, анекдот. При коммунизме человек отправляется за продуктами с целью удовлетворения своих потребностей. На двери магазина он видит объявление: “Сегодня потребности в масле не будет”.
Или другой. На большом заводе выступает лектор, рассказывающий о недалеком прекрасном будущем. “Через пять лет, товарищи, каждая советская семья будет иметь собственный автомобиль. (Аплодисменты.) А через десять лет, товарищи, у каждой семьи будет свой самолет!” Голос из зала: “Товарищ лектор, а зачем же каждой-то семье нужен самолет?” — “Поясняю на примере, — говорит лектор. — Представьте себе, что вы живете в Хабаровске. А в Красноярске выбросили муку…”
К 70-м годам к “коммунизму” как-то незаметно остыли, и он окончательно превратился в ритуальную, ни к чему не обязывающую фигуру внутрипартийного этикета. Генсек ЦК КПСС товарищ Брежнев свой многочасовой, монотонный и усыпляющий, как восточный эпос, доклад на очередном съезде неизменно заканчивал словами: “Да здравствует коммунизм!” После чего делегаты вставали и аплодировали ровно столько, сколько было положено по регламенту. А потом, усталые, но довольные, веселой гурьбой шли отовариваться “по потребностям” в рамках временно построенного в одном отдельно взятом Дворце съездов коммунизма.
Ознакомительная версия.