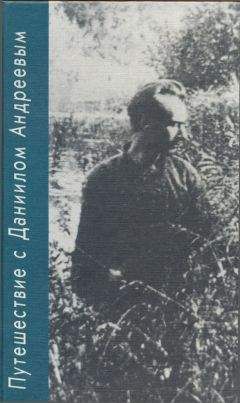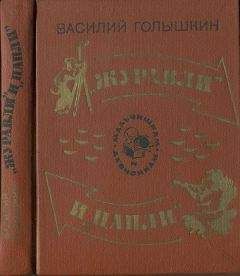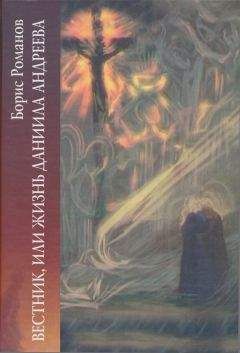Трудно сказать, был ли знаком с сочинением Бекка или с «Академией поэзии» Чижевского, вышедшей небольшим тиражом в 1918 году в Калуге, Даниил Андреев. Но дело не в этом. Тем более, что у него космическое сознание лишь одно из свойств поэта — вестника, и предполагается, что это сознание прежде всего религиозно. Поэтому с крупнейшего религиозного поэта эпохи — Державина и начинается для Андреева русская поэзия.
В оставшейся незавершенной работе «Некоторые заметки по стиховедению»[81], говоря о «спондеических опытах», — а употреблению спондеев в собственной поэтике Андреев придавал особенное значение, — он начинает с примеров из Державина, цитируя не только хрестоматийную «Жизнь Званскую», но и «Целение Саула». Основанная на ветхозаветном сюжете из 1–й Книги Царств[82] духовная ода «Целение Саула» (1809), в первой публикации именовавшаяся «Ораторией», была ему близка многим. Во — первых, космическим размахом в описании божественного мироустройства:
На пустых высотах, на зыбях Божий дух
Искони до веков в тихой тьме возносился,
Как орел над яйцом, над зародышем вкруг
Тварей всех теплотой, так крылами гнездился.
Огнь, земля и вода и весь воздух в борьбе
Меж собой внутрь и вне беспрестанно сражались,
И лишь жизнь тем они всем являли в себе,
Что там стук, а там треск, а там блеск
прорывались…[83]
Сам Даниил Андреев, описывая мироустройство в главе «Миры просветления» поэтического ансамбля «Русские боги», в сущности говорит тем же метафорическим языком:
Это —
вся движущаяся
колесница
Шара земного:
и горы, и дно, —
Все, что творилось,
все, что творится,
И все,
что будет
сотворено…
Люди,
чудовища
и херувимы.
Кондор за облаком,
змей в пыли, —
Все, что незримо,
и все, что зримо
В необозримых
сферах Земли.
Это — она, ее мраки и светы,
Вся многозначность
ее вещества.
Вся целокупность
слоев
планеты…
Даниил Андреев использовал опыт русской духовной поэзии, в которой начиная с Ломоносова звучат сакрализованные космогонические мотивы. Ему близок и пафос, и поэтический язык духовной оды, в котором, что особенно наглядно в державинском «Боге», образное и понятийное неразрывны. Ему особенно дорога поэтическая любовь одописцев к звездному небу. В «Целении Саула» Державин рисует мироустройство так:
Чертеж, в уме Творца предвечно изложенный,
Напечатлелся всей природы на ростках…
В безмолвном утра мраке
Сияет Орион;
Но звезд царя при зраке
Бледнеет, меркнет он.
На севере в полнощи льет
Свой Арктус яркий свет.
Схожий образный строй и в стихотворной космогонии «Русских богов»:
Я увидел спирали златые
И фонтаны поющих комет,
Неимоверные иерархии,
Точно сам коронованный Свет…
Островами в бескрайней лазури
Промелькнули Денеб и Арктур,
Вихри пламенных творчеств и бури…
Державинский язык, в котором сочетаются «чертеж… превыше изложенный» и Орион с Арктуcом, в сущности, тот же, что и у Андреева с его иерархиями, Денебом и Арктуром. Сближает их и неутомимое строфическое изобретательство, которое присуще Державину, как никакому другому из поэтов его времени. Сам жанр «Оратории», о котором Державин писал в своем «Рассуждении о лирической поэзии»[84], встречается и у Андреева. Хотя они определяют этот жанр по — разному, есть в их определениях и много общего. Державин противопоставляет, например, ораторию опере: «В ораториях поющие лица не действуют… а опера есть связная драма….Опера для зрения, а оратория для слуха»[85]. Ораторию, почти вторит ему Андреев, от произведений драматических «отличает, прежде всего, отсутствие зрительной данности»[86]. Державин в своем рассуждении об оратории приводит в качестве примера свое «Целение Саула». Андреев — собственную «Утреннюю ораторию».
Трудно найти в русской поэзии и пример такого, сближающего Державина с Андреевым, стремления к теоретическому осмыслению своего поэтического опыта, к автокомментарию. У Державина это «Объяснения» на собственные сочинения и «Рассуждение о лирической поэзии», у Андреева — «Новые метро — строфы (из книг «Бродяга» и «Русские боги»), впервые вводимые в русскую поэзию. Перечень, классификация, образцы» и упоминавшиеся «Некоторые заметки по стиховедению», и даже сама «Роза Мира».
Державин — один из самых близких Андрееву поэтов и по этическому пафосу, который так явственен в «Целении Саула», где добро и зло выступают как космические силы. Космической силой в оде предстает даже «гармония» — «дщерь небес», сакральная по своему происхождению. В «Розе Мира» подобные представления о мироздании подробно описаны и обоснованы.
Поэтический язык державинской оды близок и понятен Андрееву еще и потому, что связан с языком молитвенно — литургическим, который звучит и в его стихах. А образ Давида, певца, о котором в державинской оде сказано:
И ты Творца с тьмой звезд согласно
Пой с Серафимы велегласно;
И ты Его творенье рук, —
для Даниила Андреева прямо соотносится с образом пушкинского поэта, которому является «шестикрылый серафим». В то же время у Державина псалмопевец выступает совсем в другом качестве, это поэт, которому еще предстоит стать пророком, жгущим сердца людей. Он не жжет, а «целит» Саула: «И арфы тихие приятный сердцу звук / Надеждою небес его да тешут дух». Но важно, что это «целение» сакрально, что поэт выступает как провозвестник гармонии, которая возможна только в добре и Боге. А у Даниила Андреева понимание гармонии неразрывно с учением о Розе Мира как высшей этической инстанции. Эта мысль о целительстве поэзии «небесного» происхождения после Державина еще не раз прозвучит у близких Андрееву поэтов — например, в «Поэзии» (1850) Тютчева.
В «Розе Мира» Даниил Андреев говорит, что те, «кто были гениями и вестниками на Земле, продолжают после искуплений, просветлений и трансформ свое творчество» в Небесной России. Там творят «великие души, прошедшие в последний раз по земле в обликах Державина и Пушкина, Лермонтова и Гоголя, Толстого и Достоевского…»[87]. В этом списке Державин вновь соединен с Пушкиным.
О Пушкине Даниил Андреев сказал гораздо больше, чем о Державине, Пушкину им посвящены два стихотворения, довольно подробно о нем говорится в главах «Розы Мира». О гармоническом начале Пушкина, о его устремленности к будущему, связанному с Розой Мира, идет речь в стихотворении «У памятника Пушкину» (1950):
Повеса, празднослов, мальчишка толстогубый,
Как самого себя он смог преобороть?
Живой парнасский хмель из чаши муз пригубив,
Как слил в гармонию России дух и плоть?
Железная вражда непримиримых станов,
Несогласимых правд, бушующих идей,
Смиряется вот здесь, перед лицом титанов,
Таких, как этот царь, дитя и чародей.
Здесь, в бронзе вознесен над бурей, битвой, кровью,
Он молча слушает хвалебный гимн веков,
В чьем рокоте слились с имперским славословьем Молитвы мистиков и марш большевиков.
Он видит с высоты восторженные слезы,
Он слышит теплый ток ликующей любви…
Учитель красоты! наперсник Вечной Розы!
Благослови! раскрой! подаждь! Усынови!
И кажется: согрет народными руками,
Теплом несчетных уст гранитный пьедестал, —
Наш символ, наш завет, Москвы священный
камень,
Любви и творчества магический кристалл.
В этом стихотворении, вошедшем в главу «Святые камни» «Русских богов», Пушкин прежде всего национальный гений. Назвав его наперсником Вечной Розы, с которой он связывает будущее человечество, Даниил Андреев по — своему обозначает мысль, отчеканенную Гоголем: «Пушкин… это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет». Но о миссии Пушкина «под углом зрения метаистории» говорится главным образом на страницах «Розы Мира». А стихотворение отсылает читателя к очень многому, что было сказано о Пушкине раньше. Оно очень литературно. Начиная с того, что первое же определение— «повеса» не может не напомнить стихов Есенина, «парнасский хмель» и «чаши муз» — стихи о Пушкине его современников, начиная с Дельвига, которого тот именовал «парнасским братом». И называя Пушкина «царем», Андреев отсылает не только к пушкинской строке о поэте — «Ты царь: