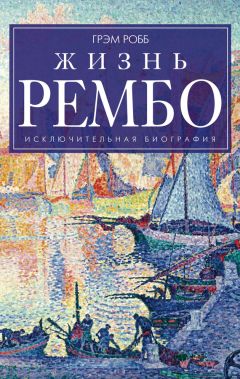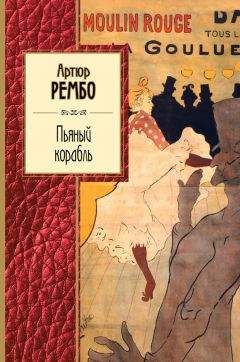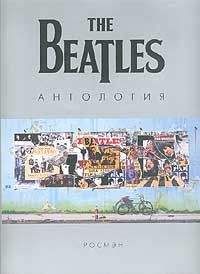Ознакомительная версия.
Французский Сохо был достаточно стабильной формой вроде сообщества бродяг и беженцев, которое Рембо позже обнаружил за пределами Суэца: общество, которое держалось вместе, как стихи Рембо, – с помощью стремления к разрушению. Манифест, написанный их другом Вермершем, был приобретен сержантом Гринэмом из Скотленд-Ярда во французском книжном магазине на Рэтбоун-плейс: «Настало время вспомнить, что жизнь тиранов и предателей принадлежат тому, кто решит отнять ее». Он цитировал манифест в своем отчете в качестве примера «настроения и намерений опасных людей, которые заполняют окрестности Лестер-сквер»[418].
Многие из этих «опасных людей» были друзьями Рембо, хотя степень их отношений неизвестна:[419] Вермерш, Лассагаре, который защищал последние баррикады в Париже, полковник Матушевич, активист-коммунар, Камиль Баррер, будущий французский посол, и Жюль Андриё, который подписал приказ о сносе символа наполеоновского империализма Вандомской колонны. По словам Делаэ, Андриё был любимым «интеллектуальным братом» Рембо. Невысокий патлатый мужчина лет тридцати пяти, Андриё был рингмастером республиканских парнасцев, вдохновителем и посредником, который слишком поздно понял, что его собственные стихи были гораздо лучше, чем произведения его подопечных. У них с Рембо было много общего: желание направить снобов французской поэзии обратно на поля фольклора, осмысленный энтузиазм в отношении тех произведений, которые были не похожи на их собственные, и способность к жестокой самокритике, которая уменьшила труды их жизни до нескольких сильных фрагментов. Современники Андриё сильно намекали на его гомосексуализм, который, возможно, и объясняет последующие осложнения в его дружбе с Рембо.
Исследования Брута (Brute) могут пролить свет на годы, проведенные Рембо в Африке, с удивительными подробностями. Его месяцы в Лондоне безнадежно неясны. Но вполне можно предположить, что он мог сделать себе литературную карьеру в Англии. В октябре Андриё обещал представить Верлена и Рембо своему другу Суинберну (письменные источники об этой встрече отсутствуют) и «удивительному» «неизвестному» поэту[420]. Это почти наверняка был Оливер Мэдокс Браун, сын живописца Форда Мэдокса Брауна, брат жены Уильяма Россетти. На расстоянии в несколько улиц и социальных слоев от Рембо на Фицрой-сквер, в окружении своих крыс и коллекции рептилий, «Нолли» Браун учился французскому и латыни у Жюля Андриё. Он был на год моложе Рембо, страстно увлекался французской литературой и надеялся сделать для Лондона то, что сделал Бальзак для Парижа. Его умеренно галлюцинаторный роман Black Swan («Черный лебедь») (опубликованный в облагороженном виде в 1873 г.)[421] изображает изысканного, высшего класса английского Рембо, глядящего на туманный ипохондрический город через окно детской.
Здесь неписанная история и заканчивается. Остаются всего два незначительных факта, как топонимы на выцветшей карте. Один из них – это издание раннего стихотворения Рембо Les Effarés («Завороженные») в обывательском Gentleman’s Magazine («Журнал джентльмена») в январе 1878 года[422]. Расхождения с другими известными версиями стихотворения столь же разоблачительны, как краска смущения: «задки кружком» стали «спинами», а мастурбирующая рука пекаря исчезла совсем. Новое название банально и сентиментально: Petits Pauvres («Маленькие бедняки»). Это Артур Рембо навел порядок – возможно, самолично – для викторианской аудитории. Стихотворение, должно быть, пролежало в редакционной папке пять лет, но это показывает, что кто-то, связанный с журналом (тот, кто редко публиковал стихи и был в других отношениях монологичным), счел Рембо достойным публикации. Камиль Баррер и литераторы круга Мэдокса Брауна регулярно писали для Gentleman's Magazine. Браун-старший пытался найти издателя для истории Коммуны Андриё и, возможно, оказывал аналогичные услуги и его юному другу[423].
Другой лондонский след Рембо был обнаружен Полем Валери в 1896 году. Молодой поэт, нанося визит Уильяму Хенли – поэту и критику[424], пришел в шок, когда был встречен свободным потоком изощренных французских ругательств. В восторге от эффекта своего французского, Хенли объяснил, что был знаком с некоторыми эмигрантами-коммунарами в Лондоне, в том числе с Верленом и Рембо.
Твердые доказательства взаимодействия Рембо с английскими писателями состоят в следующем: причесанное стихотворение опуб ликовано без его ведома, а взрыв ругательств из уст Хенли – сознательный вклад Рембо. Единственное другое задокументированное появление Рембо в художественных кругах произошло на выставке Общества французских художников на Нью-Бонд-стрит. Верлен был доволен видеть себя и Рембо на картине Фантен-Латура «Угол стола», иронически переименованной в «Несколько друзей»[425].
Картина была куплена каким-то толстосумом из Северной Англии и выставлена в галерее Манчестера. В течение последующих двадцати шести лет мечтательный юноша слева от чинно восседающего за столом Верлена оставался неопознанным. В конечном итоге картина была приобретена Лувром.
Пока коммунары боролись со шпионажем, гонениями и клеветой, Верлен жаловался на подобное обращение с ним семейства Моте. В сравнении с давлением, которое оказывали на него родственники и приспешники жены, ведение домашнего хозяйства на Хоуленд-стрит в первый лондонский период не создавало подобного напряжения. В любой день Верлена могли вызвать в суд вместе с живым доказательством его непригодности в качестве мужа и отца. Анонимные письма с рассказами о причудливой развращенности были получены обоими матерями[426]. Верлен обнаружил длинные руки родственников жены: «Все эти разговоры о содомии, в чем они [семейство Моте] имели подлость меня упрекнуть, – это просто попытка запугать – то есть шантажировать – с целью получения большего содержания».
Отчаяние Рембо из-за потери его лондонских друзей показывает, что он стремился произвести хорошее впечатление. Если его и Верлена публично обвинили бы в педерастии и если это дело сочли бы заслуживающим внимания, жизнь стала бы невозможной по обе стороны Ла-Манша. Настало время заручиться помощью той темной силы, о которой Верлен так много слышал.
14 ноября он сообщил Лепеллетье: «Рембо недавно написал своей матери, чтобы предупредить ее обо всем, что было сказано и сделано против нас, и я теперь состою с ней в регулярной переписке».
Девять дней спустя мадам Рембо «весьма решительно взяла на себя ответственность за это дело».
Материнская непримиримость, которую Рембо всегда находил столь тягостной, оказалась властной рукой в его защите. Впервые с 1859 года мадам Рембо покинула Арденны. Она села в поезд до Парижа, в столице отыскала улицу Николе и попросила Матильду вызвать мужа домой: у маленького Жоржа снова будет отец, а Артур будет спасен от публичного позора.
Матильда снизошла до того, чтобы обращаться с «доброй женщиной» из провинции «вежливо». Естественно, она отказалась сотрудничать[427]. Рембо теперь приступил к плану действий в чрезвычайных ситуациях, как Верлен говорил Лепеллетье:
«Она думает, что, если я перестану жить с ее сыном, я смогу поколебать их. […] Я думаю, что это даст им единственное оружие – «Они струсили, следовательно, они виновны».
Невольно пророчески он продолжал: «Мы с Рембо готовы, если потребуется, показать наши задницы (девственные) всей этой клике».
План действий в чрезвычайных ситуациях восторжествовал. В середине декабря Рембо уехал в Шарлевиль для краткого от дыха, наверное по собственному желанию. Как и многие заядлые путешественники, он был накрепко привязан к своей отправной точке. Все, кто бежит из дома так часто, как Рембо, неизбежно проводит там очень много времени. За девять с половиной лет между его первым побегом (1870 год) и его окончательным отъездом из Европы (1880 год) он прожил на ферме в Роше или в доме в Шарлевиле почти пять лет, редко пропуская Рождество.
Для тех, кому дорог образ богохульника-бродяги, который намеренно рушил собственные карьерные перспективы, это неприемлемая сторона Артюра Рембо: амбициозный молодой писатель, который постоянно возвращается, чтобы жить вместе с матерью, и часто побуждает ее вмешиваться в свою жизнь. Рембо, возможно, набросал первый проект «Одного лета в аду» в лондонском пабе, но написание этих напряженно аналитических стихов потребовало более прочной рабочей поверхности: «Я, который называл себя магом или ангелом, освобожденным от всякой морали, – я возвратился на землю, где надо искать себе дело, соприкасаться с шершавой реальностью. Просто крестьянин!»
…Мне нечего больше сказать, я полностью… в заднице Природы. Я твой, Природа, мать моя!
Рембо Делаэ, май 1873 г.[428]
Рембо был переполнен Лондоном, когда вернулся в Шарлевиль. Делаэ узнал о нем все: 24-часовая «энергия», чудесным образом жизнеспособный хаос, неизмеримые шаги пригорода. Жизнь там была «жесткой», но «здоровой». Все было более «интеллигентно» и «логично», чем во Франции. После излишеств парижских разговоров Рембо пришелся по вкусу подбитый гвоздями сапог британского юмора; и, как и другие недавние французские визитеры – Моне, Писсарро и Добиньи, – он полюбил туман, который купал город в нереальности. То, что создавало дискомфорт для Верлена, для Рембо было стимулом – Верлен сетовал, что у Рембо была постоянная потребность «преодолевать множество предрассудков и привычек»[429].
Ознакомительная версия.