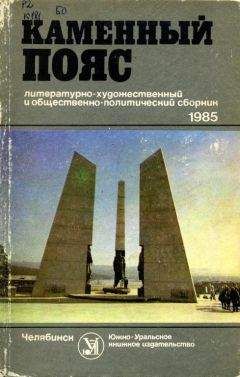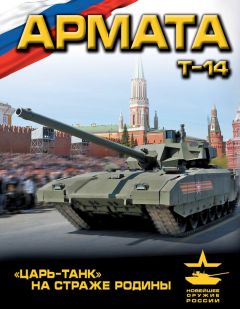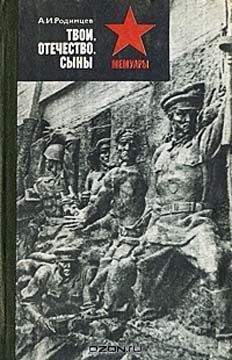Стихотворение завершали строки о партизанах, окруживших город, и о том, что вел их на врага человек, памятник которому немцы посмели разрушить.
Дочитав последнюю строку, поэт несколько секунд молчал, и снова в землянке раздался его усталый голос. Щипачев читал «Расплату»:
Пахнет гарью. Воздух пышет жаром…
Пламя проносилось по селу.
Всюду пальцы страшного пожара
Шевелят горячую золу.
Куры хохлятся на пепелище,
Где вчера куриный был шесток.
Бродит женщина, кого-то ищет,
Сбился черный с седины платок.
— Дочка, где ты, где? — Перед глазами
Две косички, бантик голубой,
Самолеты с черными крестами
Над льняной, над детской головой.
Нет страшней того, как гибнут дети.
На песке, на рельсах — кровь детей.
Говорят, проходит все на свете, —
Безутешно горе матерей.
О, расплата! Близится расплата
Пулей, бомбой, громом батарей.
Близится! Да будет трижды свято
Мщение за горе матерей!
Он прочитал последние слова, и мне, во мраке тесной землянки, показалось, что поэт плачет.
Это видение гибели детей и слезы в голосе Степана Петровича долго преследовали меня, и я постарался выразить это в стихотворении «Поэт», посвященном Щипачеву:
Мы жили с ним в блиндажике-землянке,
На сене спали у костра вдвоем,
Ползли сквозь ночь по выжженной полянке,
Издерганной винтовочным огнем.
Бежали, задыхаясь, на рассвете
За танками, ревущими в огне.
Глотая слезы, видели, как дети
Без плача умирают на войне.
…Благословен тот лес на перевале,
Сырой блиндаж с коптилкой у виска,
Где он слагал стихи, которых ждали
Идущие под пулями войска.
Девятого августа мы оставили Старую Руссу, а на другой день начались ожесточенные оборонительные бои на новгородском направлении.
Редакция занимала небольшое помещение в Новгородском кремле, но немцы приближались к древнему русскому городу, и нам приказали перебазироваться на полустанок Рядчино, неподалеку от Валдая. Уезжать, конечно, следовало, но вместе с тем это был неосмотрительный приказ. Рядом с Рядчино находился фронтовой склад боеприпасов — далеко не безопасное соседство для газеты. Я уже упоминал об этом.
И совсем нельзя было понять распоряжение, предписывающее перегонять состав среди белого дня. Точно в таком же поезде передвигался по железной дороге Главнокомандующий войсками Северо-Западного направления Маршал Советского Союза Климент Ефремович Ворошилов, и немцы денно и нощно охотились за ним. Следует помнить, что враг в ту пору господствовал в воздухе и вел себя с поразительной наглостью.
В ясный августовский день мы сидели на приступке одного из вагонов с Ваней Фроловым, скромным и деликатным фотокорреспондентом нашей газеты. Поезд тихо потряхивало на стыках. На подножке соседнего пульмана дремал железнодорожник. Мы с Фроловым недавно побывали на трудном участке фронта, это был его первый выезд на передовую, и он, как всякий новичок, по горло нахлебался горького.
Сидя на приступке, Ваня говорил:
— Теперь, старик, со мной ничего не случится до самой смерти. Мы с тобой из такой каши выбрались! Жить нам да жить!
И именно в этот миг земля встала дыбом, свет померк, и поезд, померещилось, валится в преисподнюю.
Когда пыль и дым рассеялись, я увидел, что состав стоит, а на земле без движения вытянулись Ваня Фролов и кондуктор нашей поездной бригады. У железнодорожника оторвало ногу, однако на теле моего несчастного товарища не было видно ни одной царапины.
Я бросился к Фролову, приподнял его голову и, заскрипев зубами, снова опустил на землю. На виске Вани кровоточила крошечная рваная ранка.
На запад уходили, темнея крестами, три «Хе-111». Несколько полутонных бомб, сброшенных ими на поезд, угодили в основание высокой железнодорожной насыпи. Окажись мы на ровном месте, устроили бы они из нас кашу, о чем тут говорить.
Кому-то в поезде показалось, что «Хейнкели» возвращаются, и все устремились в ближний лесок, чтобы укрыться под кронами его деревьев.
В эту минуту я услышал женский крик и кинулся в вагон. Кричала Маша, корректор редакции. Крупные осколки пронзили ее купе, дверь заклинило, и бедная женщина не знала, как выбраться из заточения.
Я рванул дверь раз, второй, третий — она не поддавалась. Потом мне кто-то помог, и мы объединенными усилиями освободили женщину.
Степан Петрович Щипачев, вспоминая в своей книге «Трудная отрада» этот горький день, писал:
«Где-то в глубине мозга — это была, вероятно, доля секунды — послышался писк, слабый, не громче комариного, — и все оборвалось. Я упал в небытие…
Когда я очнулся, в тамбуре было темно от дыма и земли. На зубах хрустело. Левая штанина галифе была разорвана от колена до паха.
Тут же я обнаружил большой осколок. Он пробил стенку вагона, двойную дверь тамбура и упал рядом со мной… Не понимая ничего, я выскочил из тамбура. Первым попался мне на глаза Марк Гроссман. Он был бледен. По щеке текла кровь…»
Немецкие осколки тогда не задели меня, и кровь на лице была не моя, возможно, Вани Фролова, а может статься, я побил себе руки, отдирая дверь, и уж потом запачкал лицо.
На другой день редактор, собрав журналистов и писателей, сказал:
— Мне надлежит написать трудное письмо жене Фролова. Мы пошлем ей вещи мужа. Однако зачем фотоаппарат вдове? Может, кто-нибудь внесет деньги и возьмет «ФЭД»?
Я прошел с фотоаппаратом Вани Фролова всю войну, и была его вещь мне как скорбная память о товарище. «Жить нам да жить!» Не получилось, Ваня…
И еще несколько фраз в заключение. Фролов не уралец и никогда не жил в нашем краю, но однажды, через десятки лет после войны, ко мне пришли незнакомые женщины и мужчина. Челябинцы и… родня Вани. У них оказался снимок его могилы, они ежегодно посещали ее. Долго длился у нас вечер грустных воспоминаний.
* * *
Итак, редакционный поезд обосновался на полустанке Рядчино, и мы оттуда добирались до передовых полков, шлепая по грязи трясин, выворачивая ноги на гатях, выталкивая многострадальные полуторки из ям, отбиваясь от гнуса.
Уже вскоре убедились: расходуем фронтовое время не лучшим образом. Три четверти его уходило на передвижения от редакции до рот и от линий боя до Рядчино.
Первого августа 1941 года я вернулся из частей, отбивавших танковые атаки немцев, в Новгородский кремль и, сдав материалы секретарю редакции, отправился к Московскому.
— Товарищ бригадный комиссар, — сказал я редактору, — доро́га до фронта и обратно съедает массу времени. Неразумно. Назрела нужда организовать постоянные корреспондентские пункты в дивизиях и армиях фронта. Телефон, телеграф, почта и всяческие оказии прочно свяжут нас с поездом редакции. И тогда, кроме прочего, у нас появится возможность ввести оперативную рубрику «Вчера на нашем фронте».
Московский размышлял недолго. Кивнул головой.
— Толково. Однако давай попробуем сначала в дивизиях, затем — в армиях.
Он подвинул к себе бланк, написал на нем несколько размашистых фраз, вызвал машинистку.
— Леля, быстро перепечатай и принеси.
Пробежав глазами командировку, доставленную машинисткой, комиссар подписал ее и передал мне. Удостоверение обязывало инструктора-литератора газеты Северо-Западного фронта «За Родину» имярек прибыть в 70-ю стрелковую дивизию в качестве постоянного представителя редакции для работы в полках.
Комдив, которому я, приехав на позиции, вручил направление, подчеркнул в нем синим карандашом слова «постоянный представитель» и согласно кивнул головой.
— Действуй, парень!
Через неделю меня неожиданно вызвал в Новгород Василий Петрович.
— Вот что, старик, — сказал он в своей обычной манере, — ты совсем завалил нас корреспонденциями. Мы все-таки фронтовая газета, и негоже печатать очерки и стихи только об одном соединении. Даже очень хорошем.
Помолчав, добавил:
— Добирайся в 11-ю армию. Организуй корпункт там.
Однако поехать в армию Василия Ивановича Морозова мне тогда не довелось.
Десятого августа, за пять дней до сдачи Новгорода, батальонный комиссар Александр Кошелев и я отправились в Политическое управление фронта. Выйдя из кремля, зашагали к длинному мосту через Волхов.
Немцы все последние дни отчаянно пытались разбомбить мост.
Проходя мимо часового, стоявшего у крайней фермы, я горестно поглядел на красноармейца с серым измученным лицом. Переправа, как магнитом, притягивала пикировщики врага, но он, этот солдат на посту, не имел права уйти или даже спрятаться в ближайшей щели.