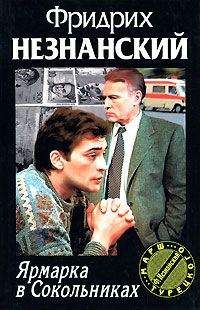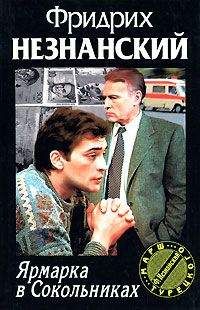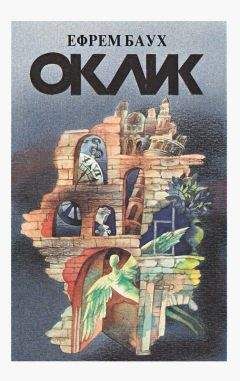И еще: порох утопии – той или иной – имеет неограниченный срок годности, поскольку есть и всегда будут обездоленные, которым вроде бы нечего терять, и доброхоты, готовые им помочь, иногда – любой ценой. Наконец, навсегда в избытке и просто глупость, и просто злоба. Поэтому лучше по мере сил препятствовать несправедливости – не только из человеколюбия, но и в целях самосохранения: ведь охотники поднести к пороху спичку и отличиться за чужой счет – тоже есть и всегда будут. А когда займется – никому не поздоровится.
Но, может быть, наиболее обескураживающий опыт последних лет, самое неприятное для российского гуманитария открытие касается свободного и довольного человека… Впрочем, себя он вполне устраивает. Вероятно, в данный момент он апатично смотрит по телевизору какую-нибудь херню, от которой руки опускаются, и запивает это дело пивком. Имеет право. И винить в его неблагообразии уже некого: свобода.
* * *
Стал ли я счастливей, став свободным? Не уверен. Но свобода – это не про счастье, при чем здесь счастье? Свобода расширяет кругозор, подогревает чувство личного достоинства, треплет нервы и умножает познание. А кого и когда вышеназванное осчастливливало?!
Обретение свободы еще и грустно, как окончание детства с его иллюзиями, пусть даже приютскими. Но это какая-то правильная грусть – так и Маугли был невесел, уходя к людям. А питон Каа пробовал его утешить: “Сбросив кожу, мы не влезаем в нее больше. Таков закон”.
2006
Меня и зовут-то простым именем Сергей из-за старинных и упорных поползновений горожан с запросами пообщаться с природой – хотя бы в теплое время года. Дед и бабушка по отцовской линии вывозили своих детей на лето за город: снимали комнату с терраской в какой-нибудь деревне – дачных поселков тогда почти не было, загородных домов подавно. Ежегодная пытка первого знакомства с местными – белоголовыми и босоногими, курящими и матерящимися – кольками и юрками на предмет футбола, рыбалки и расшибалочки, когда тебя, чужака и буку, ко всему прочему угораздило зваться Марком, крепко запомнилась моему отцу, и он поклялся себе, что пощадит будущего сына и даст ему первое же обычное пришедшее на ум имя. Так я стал Сергеем. Правда, собственное каникулярное детство я коротал уже в академических дачных поселках, где снимали (снова же комнату-другую и террасу) мои родители. А отпрыски профессорских семейств, с которыми меня сводили те же футбол, рыбалка и иные, менее пасторальные, занятия, сами нередко носили имена с претензией, так что и мне, думаю, простили бы какого-нибудь Эдика – да поздно сокрушаться.
К обитанию вне Москвы в межсезонье меня приучили неприкаянная молодость (в пустующем дачном поселке было дешевле снять жилье), а после – женитьба: у жениной родни имелись шесть соток с летним домом. В статусе примака-латифундиста у меня открылись глаза на несколько вещей сразу. Первое. Природа, вопреки подсознательному убеждению закоренелого горожанина, не начинается с началом каникул или отпуска и не сворачивает свои декорации в аккурат через двадцать четыре рабочих дня или к 1 сентября: представление вовсю продолжается и в отсутствие публики. Причем в эти напрасные, с городской точки зрения, демисезонно-зимние месяцы – тоже есть на что посмотреть.
Далее. Орудуя колуном, бдительно прищипывая “пасынки” на помидорах и подбирая лопатой коровьи лепешки на лугу, я постиг наконец сокровенный смысл дневниковой записи Льва Толстого, что он-де не может быть счастлив без японских свиней, – но одновременно стал еще хуже понимать высказывание Маркса об идиотизме сельской жизни. (Идиотизм-то, может быть, и идиотизм, зато мои дети, в отличие, например, от меня, всю свою жизнь из года в год возвращаются под одни и те же деревья и знают их в лицо.)
А весной над компостной ямой, полной в края ровного черного праха, который еще минувшей осенью высился безобразной грудой органического мусора – сорной травы, рыбьих остовов, арбузных корок, я оценил пафос кладбищенских разглагольствований Гамлета: в городской черте его монолог звучал менее убедительно.
Я – сторонник жанровой определенности. Лету следует быть знойным, водке – сорокаградусной, сонету – в четырнадцать строк. В ладу со всем вышеперечисленным как-то само собой разумелось, что житье за городом – испытание, бравирующее неудобствами: валенками вместо тапочек, едой всухомятку, рывком, как в атаку, на двор по нужде, когда уже совсем невтерпеж, и прочей надрывной экзотикой. Но применительно к загородному жилищу мне пришлось поступиться принципами (насчет сонета и водки пока стою на своем).
Вот уже и жена досадует (а я поддакиваю), что из-за отсутствия в нашем загородном доме воды с октября по май все никак не удается сделать его постоянным местожительством, и деловито списывает номера телефонов из объявлений “Бурение скважин”.
Так или иначе, но “стирание границы между городом и деревней” помаленьку происходит, правда не благодаря породившей этот лозунг социальной утопии, а наперекор ей. “Пора нам обзавестись родовым гнездом”, – как сказала одна дамочка. И впрямь пора.
Когда в твоем камине горят твои дрова и двери твои надежны, называй сына хоть Ромуальдом – очень многое тогда становится делом вкуса.
2001
Везет меня изо дня в день эскалатор в недра метро, а дикторский проникновенный голос попутно рассказывает о детской наркомании, приводит удручающую статистику и просит, взывая к гражданской и родительской ответственности, сообщить по телефону, если кто что случаем узнает об источниках распространения этой заразы… И называет семь цифр в самой неудобоусвояемой комбинации, скажем 487-39-52.
Что себе думали инициаторы благого начинания? Что отзывчивые пассажиры (а почему бы и не отозваться на такую беду?!) примутся со скоростью и суетливостью Чарли Чаплина в считаные секунды спуска, роняя на движущиеся ступени очки и содержимое сумочек и портфелей, извлекать писчие принадлежности: ведь прозвучавший номер в принципе не рассчитан на запоминание с лету? Почему контактный телефон какой-нибудь фигни – лазерной эпиляции или салона татуировки и пирсинга – цепко запечатлевается в памяти нарочито складным набором цифр, точь-в-точь номерной знак бандитского или депутатского джипа, а способ связи с такой насущной организацией, как наркоконтроль, поневоле тотчас выдувает из памяти шумом подходящего поезда? Риторический вопрос. Потому что равнодушным дядям и тетям – чиновникам спустили разнарядку: довести до сведения населения, они и довели от сих до сих и – с глаз долой.
Досадуя, сажусь в поезд и думаю, что подобные “ножницы” между замыслом и исполнением – сплошь и рядом, сколько себя помню. Вот только на днях я грохнулся во весь свой рост, потому что похмельные болваны впрок “для галочки”, оберегая прохожих от падения сосулек (хотя в Москве ни снежинки), натянули поперек тротуара проволоку на уровне щиколоток, а темнота была кромешной… А случись на моем месте и вовсе пожилой человек, который не отделался бы, как я, испугом и ушибами, а заполучил бы какой-нибудь перелом шейки бедра со всеми вытекающими?
Хорошо коротать дорогу за злопыхательством и очернительством. Уже поднимает меня эскалатор на улицу, снова вещает диктор, прислушиваюсь – никак, стихи? Они самые. Вообще-то средний соотечественник относится к стихам как к школьной обязаловке вроде черчения или гражданской обороны, которую положено превзойти в отрочестве, отмучиться и уже не возвращаться к этой материи никогда за полной ненадобностью. Дежурно-мажорный дикторский голос (видимо, он только что нахваливал шампунь от перхоти и тональности не сменил) лишний раз убеждает людей на эскалаторе, что подростковое впечатление не обмануло: лирика и впрямь – нечто постное, до тошноты жизнеутверждающее, навязываемое сверху. Ко всему прочему, стихотворение, звучащее над лесенкой-чудесенкой, – длинное-предлинное, и пассажир за время подъема или спуска в состоянии уловить лишь отрывок. А приспичит прослушать произведение искусства целиком – клади с прибором на неотложные дела, разворачивайся на сто восемьдесят градусов и маршируй по ступеням эскалатора против направления движения. И-ди-о-тизм. И никогда никому не докажешь, что “над вымыслом слезами обольюсь” имеет, наверное, в первую очередь отношение к стихам и, честное слово, хорошая лирика – вещь довольно душемутительная. Снова же, разнарядка или – как его? – мероприятие.
Увернувшись от надвигающегося каламбура про благие намерения, ведущие в подземку, сознание ищет менее банальных умозаключений, но ему уже задан несколько метафизический уклон. Если ад, в который не больно-то верится, и существует, то он, вполне вероятно, не страшен, а скучен до зубовного скрежета, потому что исполнен абы как: не грозная преисподняя, а ни то ни се – какой-то рай “на троечку”. И все-таки страшен, потому что бесконечен. Князь тьмы, чего доброго, не импозантный оперный демон в черном плаще, а просто большой серый начальник, чудак на букву “м”, которому целую вечность “хочется как лучше, а получается как всегда”: недомыслие, недоработки, недоразумения – недо, недо, недо… Во вверенном недотепе-дьяволу административно-хозяйственном округе тоскливо сочатся водопроводные краны, по радио денно и нощно – казенная декламация в рифму, а телефонный номер службы спасения произносится незапоминающейся скороговоркой. И так – на веки вечные.