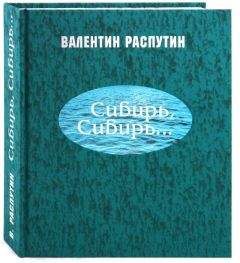И тот и другой прошли через Русское Устье и говорят о русских поречанах. М. Геденштром в начале XIX века насчитал в трех селениях 108 мужчин. Через сто лет, во времена Зензинова, их было гораздо меньше. В русскоустьинском языке осталось выражение «зашиверская погань» — об оспе, дважды выкосившей город Зашиверск в среднем течении Индигирки, к которому были приписаны и понизовщики, и погулявшей, надо полагать, и среди них.
Все это, разумеется, не прямые, не документальные доказательства в пользу прилога — о русских, пришедших на Индигирку из России по морю. Это доказательства того, что «могло быть», перевешивающие «не могло». Прямые, вероятно, уже и не сыщутся, поскольку, повторю, тут проглядывается скрытая экспедиция горстки русских людей, явившихся не тогда и не оттуда, как это происходило позднее при колонизации массовой и узаконенной.
Но зачем непременно нужно искать, обманывает или не обманывает предание? Из любви к преданию? Из любви к истине? И то и другое очевидно, но прежде всего из желания понять уникальное, исключительное явление сохранившихся старобытности и староречия. Конечно, XX век не прошел бесследно и для русскоустьинца, и ныне далеко не то здесь, что было в начале столетия, когда писалось: «…Археолог считал бы для себя величайшим счастьем, если бы, раскопав могилу XVI или XVII века, он мог бы хоть сколько-нибудь правдиво облечь вырытый им древний скелет в надлежащие одежды жизни, дать ему душу, услышать его речь. Древних людей в Русском Устье ему откапывать не надо. Перед ним в Русском Устье эти древние люди как бы и не умирали». Сегодня так уже не скажешь, но и то, что осталось в «одеждах жизни» и особенно в языке русскоустьинца, кажется удивительным и заставляет спохватываться: какое нынче на дворе время?
Объяснение находилось простое: Крайний Север, тяжелые условия существования, отдаленность от цивилизации, жизнь в окружении инородцев, последняя степень изолированности (русскоустьинцев долго не брали даже и на военную службу) как нельзя лучше способствовали сбережению всего своего, вечная мерзлота и для этого случая оказалась прекрасной консервативной средой, веками оставляющей в собственном виде все, что в нее попадает.
И с причинами этими надо считаться, они действительно значили много, но считаться с ними надо как с условиями, способствовавшими сохранению того, что имело невероятную силу сопротивления и с самого начала поставило себе целью сопротивление. Надо не забывать, что, в сущности, в тех же природных и инородческих условиях находились русские всюду на Крайнем Севере, но большинство их рядом с сильным народом объякутилось и наполовину потеряло родной язык. Что там наполовину! Майдель в своей книге рассказывает, как в большой русской деревне в Олекминском округе, куда он заезжал, ни один человек не понимал по-русски. Прежние русские на Колыме называли себя колымчанами, в ста верстах от Русского Устья к югу на Индигирке — индигирщиками, понимая, что они и не русские и не якуты, а что-то среднее, перемешанное и перетолченное, ставшее принадлежностью местности, а не национальности.
Русскоустьинец не поддался решительному влиянию окружавших его и превосходивших по численности якутов, юкагиров, эвенов и чукчей. Он усвоил лишь самое необходимое из промысловых и бытовых обозначений местных языков — из того, что в прежнем круге его жизни не было и потому не имело названий. Не удалось ему полностью сохранить и чистоту породы, примесь юкагирской и якутской крови в нем заметна, но без этого было нельзя, самовосполнение из одного и того же маленького круга грозило вырождением. И тем не менее примерно в одной части из четырех русскоустьинец остался в правильных очертаниях русского лица, как показалось мне, носящего следы жертвенности и аскетичности, как бы подсушенные, выжженные изнутри пронзительным взглядом. Такие лица можно еще встретить разве что в старинных раскольничьих селах. И этот чистокровный тип, а также тип лица, однажды подъякученного, но не объякутившегося многократно, наводит на мысль, что первые русские пришли в низовья Индигирки семьями, в отличие от спускавшихся с юга казаков и промышленников, которые почти сплошь должны были брать в жены инородок. Но они пришли семьями не в результате религиозного раскола, их исход мог произойти только до раскола, воспоминаний о нем у них не осталось вовсе.
Необыкновенная национальная устойчивость, замкнутая старобытность, обособленность языка и нравов, поразительная памятливость — все это свидетельства хоть и косвенные, но совсем не пустые, вместе говорящие, что мы имеем тут дело не с правилом, а с исключением, с чем-то совершенно особым и отдельным. Подумать только: едва ли не половина русскоустьинского языка всюду в России утеряна, а здесь, быть может бессознательно, слова, потерявшие в новых условиях собственную предметность, находили другое, не противное себе обозначение и все-таки жили. Произношение здесь так сильно отличалось от общепринятого, что и теперь русскоустьинца, когда он переходит на свой говор, понять почти невозможно. С трудом понимал его сосед-индигирщик и колымчанин и сто лет назад. Сравнить произношение русскоустьинца не с чем, это какое-то неразделимое сочетание человеческих и природных интонаций, сливающихся в одно глухое, шебуршащее звуковое движение.
И, наконец, фольклор. Русское Устье — точно оазис среди окружающей его поэтической засухи. Как мог не захиреть, не обезголосеть, не вымерзнуть этот оазис — тоже загадка, которую не разгадать, если сваливать русскоустьинца в общую кучу. Еще Зензинов был удивлен, встретив здесь вариации записанной Пушкиным народной песни «Как во городе было во Астрахани». Разночтения как раз и говорят, что на Индигирке ее могли подхватить не от пушкинского текста, что она могла сюда прийти собственной дорогой. Зензинов записал здесь несколько исторических и плясовых песен и булю (былину), воспроизвел также во всем ее обрядовом богатстве свадьбу, уже тогда сокрушаясь, что фольклор в Русском Устье доживает, по всей видимости, последние годы. К счастью, он ошибся, и спустя десятилетия фольклорные записи и находки в Русском Устье продолжались и продолжаются.
Язык, фольклор и традиция прежде всего помогли этим людям выдержать в краю, который давно назван пределом выживаемости, и явиться перед Россией вполне русскими, а в некоторых чертах русскими больше, чем все мы, содержавшиеся в общем национальном теле. И вот теперь, когда они вышли почти из ниоткуда («а в России их вовсе потеряли») и присоединились к нам, мы вместо того, чтобы внимательно присмотреться к ним и узнать исток (узнать причину) их чудесного спасения, спрашиваем справку от Ивана Грозного или Алексея Михайловича, которой было бы удостоверено, как, каким путем, сухим или морским, и по чьему промышлению появились они здесь, дети иных краев и иной природы, и что означает их появление. «Чудна Русь!» — восклицали русскоустьинцы, когда доносилось до них что-либо непонятное с нашей стороны; так и теперь они вправе сказать с недоумением. «Чудна Русь!»
Что касается нашего предания — у него достаточно много защитников и было, и есть, и будет. Вот и С. Н. Азбелев, один из собирателей и составителей «Фольклора Русского Устья», в своей статье в этой книге пишет: «Вместе с тем в топонимике дельты Индигирки сохранились названия, восходящие к именам некоторых предводителей проходивших здесь казачьих экспедиций середины и второй половины XVII века. Этот факт свидетельствует, что какое-то русское население тогда уже существовало. Больше некому было присвоить эти названия и сохранить их».
А ведь и верно. Как бы им иначе зацепиться?
И не в том ли и состоит секрет, не в том ли и кроется тайна необыкновенной судьбы этих людей, что с самого начала было обозначено названием — Русское Жило, Русское Устье. С первого дня определили они образ жизни и правило, единственно которые могли помочь им в сохранении своего состава. Надо догадываться, что они не просто говорили на русском, данном им от природы, языке, не замечая и не вкладывая чувство в обычный вопрос или ответ, а говорили с радостью, им было приятно слушать друг друга и своих предков в давних поэтических складываниях. И они не просто держались традиций и соблюдали обряды, исполняя положенное, но относились к ним почти с телесным удовольствием: то, что для жителя коренной России бывало обузой, здесь представляло такую же потребность, как еда и сон. Вот почему русскоустьинец сохранил и разговорчивость, и подвижность чувства. Длинной полярной ночью, зажегши чувал (камин), вспоминали они по очереди и все вместе сказку, песню и булю, и тогда старшие следили, чтобы не потеряли младшие ни одно слово, принесенное со старой родины. Фольклористы заметили, что в Русском Устье былины и баллады сказываются едва ли не первородным, каноническим текстом; на тех, кто отступал от него, взмахивали с неудовольствием руками: не умеешь, не умеешь. Не надо думать, что эта обережительная сила веками действовала сама собой — нет, действовала она, вероятно, по воле зрячей и направленной.